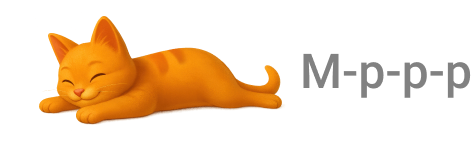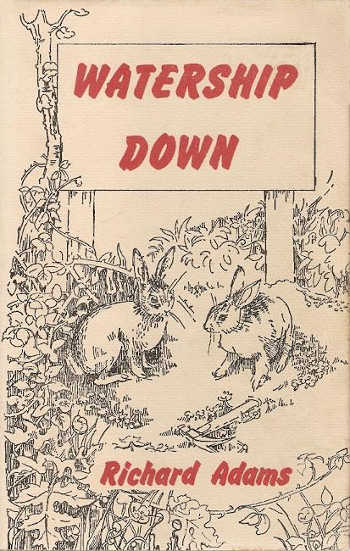У меня большие ноги, неудобные. У меня большие глаза и большие ноги. Я бы согласилась чуть уменьшить глаза, если б от этого уменьшились и ноги. А так мне всё время что-то мешает шагать. Идти, как она, виляя бёдрами, на несравненных шпильках и слышать вслед со всех улиц «улю-лю-лю»… И от этого приплясывать, и чувствовать, как мир партнёрски ведёт тебя в ритме какого-то отрепетированного танго, прижимает, когда надо, отбрасывает, когда надо, и, главное — выбрасывает только в выгодном направлении! Да! Казалось, со страстной щедростью мир одаривал её мужчинами для танцев в красной помаде. А также: мужчинами с терракотовыми пиджаками «с Милану», мужчинами с побрякушками «с Ирану» и ещё такими мужиками, что поселили её в центре города, в квартире с потолками, где не пришлось бы сутулиться и великану.
Я точно не помню, когда Нина взяла всю ответственность за наше существование на себя. Наверное, в тот день, когда мы проели мои последние деньги. Я помню лишь, как она сказала:
— Такие, как ты, не выживают, а жаль…
— Не парься ты из-за этой своей работёнки. Звезда с какого-то подвала… Ну что ты, в самом деле?! Какие-то дяди над тобой насмехались просто. Молодец, что ушла. Ты хотела, чтоб они уничтожили в тебе что-то волшебное?
— Что-то волшебное нельзя уничтожить, — ответила я ей.
— Ты уверена?
— Я ни в чём не уверена. Никто не знает, как жить.
— Глупости! — усмехнулась она тогда.
Тогда, в день нашей встречи, я уволилась с работы и пошла за ней. Попёрлась, как за кроликом из «Матрицы», за которым необходимо было следовать. И красная с синей таблеточки для меня были уже наготове. Нет, я не настолько фриковата, что верю во всякую судьбоносную всячину. Я сама однажды показалась одной малолетней наркоманке той самой, за которой она пойдёт, и всё станет другим. Ну, в общем, мне, может, и хотелось стать для неё Морфиусом и спасти её из Матрицы, где правит амфетамин, но через час я сообщила ей: «Да ты конченая». А наркоманка мне: «Так имей сострадание», — и ушла в темноту дворов. В общем, я поимела с неё мысли о сострадании, а она с меня — пятьсот рэ на дозу. Вот так вот, никакого вам чуда.
Я работала тогда в захудалом, но достаточно посещаемом театре — благодаря своим вкусным капустникам. А впоследствии — тому, что толстопузые его владельцы перенесли место действия со сцены в буфет. Кто хотел хлеба и зрелищ — столовался у нас. Мне нравились эти перемены в театре, потому что вместо ерунды какой-то… мы стали ставить Шекспира. Наш креативный директор посчитал, что под коньяк и холодные закуски лучше подавать Шекспира. И мы не спорили. Так и не разбогатев со студенческих времён, мы не разбирались, что к чему подают… Так тогда было.
Сейчас же я иду за Ниной и уже знаю, что не по этикету это — черпать Шекспира ложкой для борща.
— Теперь у меня нет ни семьи, ни работы, — говорю я ей.
— Ну и чё? Научилась говорить себе правду? — спрашивает она.
— Видимо, да.
— Никто так не делает.
— Что?!
— Никто не говорит себе правду, прежде не научившись себе врать… Найди себе мужика и работу, а пока — наври себе что-нибудь.
— Ну что мне себе наврать?
— Ну например… как это делается. Наври хотя бы так: ты, типа, ждёшь своего принца и ищешь себя…
— Я жду и ищу… Так это тоже правда.
— А-ха-ха-ха! Тоже правда — это не считается. Понимаешь? В «тоже правде» можно всю жизнь прожить. Видела этих навранных людей? Один наврал себе, что добр и смел, и думает, будто это тоже правда. Другая сказала себе, что особенная. Третий считает, что он добропорядочный семьянин. Четвёртый не отказывает себе в благородстве. Пятый обнаруживает в себе никому не нужного гения. Но на самом деле они не знают себя. И их полно… Целый навранный мир. Люди — это плохая музыка, их песни фальшивы.
Я не понимала, почему всё сказанное ею кажется мне каким-то истинным знанием. Может, потому, что у неё был золотой кетчуп? И она поливала золотом сосиски? Было в ней что-то не навранное, особенное.
— Это я с Дюссельдорфа кетчупчик привезла, — объясняет Нина. — Забавно, да? Люблю всё забавное. Может, напьёмся? — тут же спрашивает она.
— Может, давай.
Плавучий ресторан на берегу Невы — манерное место для манерных людей и шикарное для шикарных шлюх. Хотя мы не очень-то интересовались происходящим вокруг: садились у окна с видом на реку и качались… Выпивали и качались. Этот рестик был для нас чем-то типа большой люльки. Мы даже не разговаривали, иногда лишь переглядывались и улыбались друг другу. А иногда играли в нашу игру под названием «Что лопает сосед?». Определять нужно было по запаху. Мы закрывали глаза и принюхивались к соседним столам. Я всегда выигрывала, несмотря на то что у Нины был лучше нюх на омаров.
В общем, как-то так… Мы проводили с ней время, легко уплывали от забот и забывали, что на самом деле никуда не плывём. На самом деле мы, как и все люди, что в своём уме, были мертво намотаны на кнехты своих жизненных обстоятельств.
— Почему ты тогда ко мне прицепилась? — спросила я Нину.
— Потому что тебя там обижали, — ответила она.
— Там всех, как выяснилось, обижали.
— Но только у тебя было то, чего нельзя насосать… То, чего… Ты особенная и ты чистая, и это особенно невероятно.
— Одни мучения быть особенно странной. Меня три раза водили к психиатру, — выпалила я.
— А я воровала, один раз, — поддержала Нина. — Когда мне было шесть, я украла у подружки рисунок балерины. На голубом фоне, тонкая, в юбке из облака и с вытянутой ножкой… И её профиль, чёткими линиями нарисованный…
Как только это что-то высокое, даже, я б сказала, заоблачно высокое нечто оказалось у меня в кармане, приехал вроде как мой троюродный дядя. Неделю вроде как гладил меня по ляжкам и подушечкой большого пальца касался трусиков, в результате чего я получила от него самую дорогую заколку для волос, купленную в самом большом магазине моего маленького посёлка, где росли пирамидальные тополя. И где в свои четырнадцать я вроде как показала грудь за осла.
Я поперхнулась, она участливо постучала меня по спине.
— Да… Мне отдали старого осла сразу после демонстрации только ещё набухающих молочных желёз. Я прицепила к нему телегу и катала летом приезжих детей в Краснодаре. Скопив на билет, я и уехала в Петербург. Через пару месяцев доголодалась здесь до приватных танцев в элитном клубе знакомств. Танцевала я без таланта, попросту — плохо. А вот грудь показывала так хорошо, что ослы молодели, а заколки дорожали. Это мой единственный талант, — закончила она.
— Что ж… У тебя талантливые сиськи, а у меня — нет. У меня, по-моему, вообще ни одной талантливой части тела.
— Внутри, — скомкала она слово, произнеся его слишком коротко.
— Что?
— У тебя что-то внутри. Та балерина… у тебя там. Я тогда её в тебе увидела… тогда.
— Когда?
— А-а-а-а тогда-а!
…Тогда к нам в театр пригнали негра — настоящего, чёрного, из Камеруна. Он был не актёром вообще, только негром он был, двадцативосьмилетний студент какого-то питерского вуза. Толстый, чёрный и с очень плохим русским. Он постоянно говорил о сексе и даже старушке гардеробщице предъявил справку, что СПИДом не болеет, и та побледнела. В общем, вот…
«Сон в летнюю ночь». Я вся в любви. Слышу его:
— Да разве я любезничал с тобою? Я завлекал тебя? Сказал я прямо, что не лю́блю и никогда не полю́блю тебя! — кричит он, расставляя, темнота, ударения в словах по своему неразумению.
Я кидаюсь к нему и тоже кричу:
— Да! Я твоя собачка, бей сильней. Чем больше будешь бить, тем больше буду вилять я хво́стом, — ненарочно ударяю я не на тот слог…
Потом я плачу. Зал ревёт от хохота и свистит, я слышу, как кто-то даже хрюкает. В общем, полный аншлаг. Вдруг меня хватают за рукав и пытаются стащить со сцены.
— Пойдём отсюда, здесь одни уроды, тебе здесь не место, — слышу я что-то, что выходит за границы моей роли.
…Раньше я никогда не смотрела в зал во время спектакля, а тогда посмотрела. Раньше я никогда не выпадала из заданных обстоятельств. Ни-ког-да не смотрела!.. Мой контакт со зрителем — это лишь ощущение, что за тобой кто-то наблюдает, кто-то смотрит на тебя. Как и в жизни… Ты идёшь, а тебя рассматривают прохожие. Ты знаешь об этом, но дальше идёшь и дальше живёшь, почти не обращая на них внимания. И обычно никто не выдёргивает тебя из жизни за рукав и не заявляет: «Пойдём отсюда. Здесь одни уроды. Тебе здесь не место». Хотя иногда ты даже ждёшь этого кого-то или чего-то, в надежде на более совершенное существование.
Она влезла на сцену и загородила меня от публики, словно я оказалась некстати голой.
— Пошли, ну пойдём, — всё дёргала и дёргала она меня.
— Что случилось? — спросила я.
— А ты не видишь? Ты что, слепая?
Я посмотрела ещё раз. Красные лица — много… И столы с объедками… Кто-то с тремя подбородками в первом ряду всё ещё хохотал, и из него вылетали куски недожёванного пельменя, он давился то ли смехом, то ли закуской — было непонятно.
— Ты им Шекспира мечешь? — спросила она.
— Не надо?
У неё дёрнулась щека, она развернулась, подошла к здоровяку с пельменями и с размаху влепила ему сначала по спине, а потом по лицу так, что все его подбородки затряслись, а потом крикнула мне:
И рванула к выходу. Я спрыгнула со сцены и побежала за ней.
— Сумасшедшая! — кричала я ей вслед. — Она сумасшедшая! — с радостью объявляла я изумлённой публике и даже потрепала по ходу чью-то кудрявую голову.
Мы выбежали из театра и понеслись в подворотню. Забежали в парадную, бегом поднялись на пятый этаж и там долго сотрясались и всхлипывали. Отдышавшись, я разглядела, что женщина абсолютно пьяна, и тогда мне стало ещё смешнее… Я просто надрывалась от смеха и даже хрюкала:
— Представляю… хрю… как нас теперь закроют… хрю… посодют за хулиганство… хрю… и я буду чалиться в этом платье… вообще… глянь… хрю-хрю… — захлёбывалась я.
— Никто нас не посадит, — улыбалась она. — Тот мужик — мой любовник. Он меня давно затрахал, и ещё он — жадная свинья.
— А-ха-ха-хрю-хрю…
— Ну что ты так ржёшь-то? Ничего смешного. Мне больше не выпить столько, чтоб снова с ним лечь. Так что мы теперь обе безработные. Как тебя зовут?
— Саша.
— Нина. Так зовут меня. Всё будет хорошо, Саша. Ты хотела, чтоб они уничтожили в тебе что-то волшебное?
— Что-то волшебное нельзя уничтожить, — сказала я ей, но не была уверена в этом ответе.
Ну, в общем… дальше вы знаете. Слышали уже. Она мне: «Ты типа уверена?» Я ей: «Никто не знает, как жить». Она мне: «Глупости». Ну и так далее.
— А в Париже пахнет сыром и духами. Ты чувствуешь? — спросила я её, как только мы вышли из ресторана на набережную. И ещё все вокруг картавят, ты слышишь?
— Ага, — ответила она, вдыхая ветер полной грудью и слушая метель. — Но сейчас я хочу в Лондон.
— Хорошо. Давай погуляем по Лондону. Улочки узенькие, как игрушечные, и домики такие же. А англичане в веснушках… и англичанки. Если смотреть на них сверху, будто ты солнце… ты будешь ласковая к ним… Там много жёлтого, и зелёного достаточно. И ещё синего и серого, как небо.
— Так красиво?
— Скорее смешно. Газончики такие, под ёжик подстриженные. Всё как в мультике, представляешь?
— Так забавно?
— Ага. Машинки маленькие, юрк-юрк… Все мельтешат… англичанки спешат куда-то на коротких ножках… а англичане пялятся на них из пабов с огромными окнами. Такие, знаешь… не злые и не добрые… слегка уставшие англичане.
— От чего?
— От своих строгих костюмов и, может, города, независимо от их душ — всё же строгого. И им приходится каждый день ходить в нём, а он застёгнут под самое горло. Душит он их.
Нина смотрит на меня и плачет.
— Это просто балерина.
— Ты просто опять перебрала… Вот тебе она и видится. Все напиваются до чёртиков, а ты — до балерин, — отвечаю я ей.
Я сказала: «Гнида. Раздавить!» — и хотела сплюнуть, но во рту пересохло, и я зазаикалась: «А… а… м-мо… можно водички?»
Они сказали: «Вон кулер». И: «Мы вам позвоним».
Я уже четвёртый месяц заикаюсь по кастингам. И почти два месяца прошло, как съехала я со своей коммуналки и живу в апартаментах Нины. Она сказала:
— Я делаю тебе предложение: давай жить вместе.
— Хочешь в кино — так иди в кино.
В этот вторник я пробовалась на роль прожжённой тётки из КГБ, что постоянно курила, сплёвывала и всех приговаривала к расстрелу. А в прошлый понедельник я стала матерью, причём сразу пятерых. Старшая моя дочь так мне трепала нервы, прям раздражала, потому что была она набитой дурой с силиконовой губой и всего на шесть лет младше меня. Но я не возмутилась нисколько этому несоответствию! Я знала, что мне в любом случае укажут на кулер и потом на дверь. Уже прямо с порога знала, как только прожужжала «З… зы-зы… зы… дравствуй… те».
Я не рассказываю Нине о том, что со мной происходит на пробах. Я говорю: «Мне нечего там делать. Там одни уроды, эти дешёвые сериальщики так завидуют моему таланту, что не дают ролей».
Я замечаю, что всё чаще разговариваю с Ниной какими-то не своими словами, будто играю роль и ничего не могу с собой поделать. Думаю, что я боюсь. Боюсь, что она вернёт меня обратно, как бракованного щенка. Как она растянет: «Бли-и-ин… А с прикусом-то беда, и задние лапы иксят. Я ошиблась. Нет в тебе ни капли балерины». И тогда мне придётся вернуться в свою старую конуру и зализывать новую рану. И бесконечно плакаться Одинокому Мистеру, моей кукле — другу с одним глазом, точнее, с пуговицей вместо него.
Так вот что меня ждёт: одноглазый Мистер, горчица на хлеб, вялый омлет, грязный чайник, душ в общей уборной… Там же сосед со слабым желудком. Его жена варит свекольник на кухне. И там же его сын, которого зовут Егорка. Егорка пьёт беспробудно. И тётя Римма-кошатница тут же, пахнет кошачьими ссаками и ненавидит всё человечество. Причём очень громко ненавидит, причём в вечно разбитое окно.
— Там котяточки, котяточки народились! — орёт она через дырку в стекле прохожим. — Вы б хоть блюдечко молочка им принесли. Жадные твари! Ну что за люди пошли… Люди — какие-то нелюди!
Потом она шаркает в свою комнату и ворчит себе под нос всегда одно и то же:
— У самих-то вон скока денег. Молочка им блюдечка жалко. Чтоб вы сами все с голоду попередохли! Да задери вас бульдог!
Но больше всего я боялась возвратиться в свою жизнь вечером и если будет тихо. Поднять голову и снова увидеть на шестом этаже тёмное окошко. А если вдруг оно будет гореть… Это значит либо пожар, либо мне уже совсем капец. Это значит, что я опять нарочно оставляю свет включённым, чтобы не видеть своего собственного окна, почерневшего от одиночества.
Таким же оно было у моей бабушки, певички. И ещё чёрное пианино у неё было, и чёрные песни оттуда летели… До сих пор их слышу:
«Осыпались листья над вашей могилой… ла-ла… и пахнет зимой. Послушайте, мёртвый, послушайте, милый, вы всё-таки мой».
У бабушки хоть мёртвый дед был, а у меня из мужчин ни одной живой и даже мёртвой души — ни одной. Нет… была одна короткая история с седым коротышкой, пожилым дядечкой очень маленького роста. Я рассказывала её Нине, держа фиги за спиной, рассказывала, как высокий и пылкий брюнет любил меня до потери пульса… И через паузу пела:
«Осыпались листья над вашей могилой, и пахнет зимой. Я смерти не верю, я жду вас с вокзала… домой! Домой!»
На самом деле я никого не ждала. Разве что мальчика из моих снов. Он приходил ко мне в ночь с четверга на пятницу, и я хотела, чтоб он сбылся. Тем более после всего, что между нами было. Мы летали и целовались… Ага. Плавали по небу рыбами, падали в море птицами, краснели закатами, стеснялись, заикались, зажимались, трепетали, молчали… и иногда гудели что-то другу другу — словно пронизывали друг друга какими-то ультразвуковыми волнами. Он мне — гу-гу-гу, и я ему что-то гудела каждую ночь с четверга на пятницу. И я знала: если он сбудется… Ох, тогда — погудим.
Только его я ждала. Только его я любила больше жизни, так что хотела уснуть и не проснуться.
Хотя мне, наверное, просто не нравилась моя жизнь, ничего в ней не нравилось, кроме театра. Наверное, точно не нравилась, настолько, что можно было и вправду — не просыпаться. Но я не умела говорить себе правду… Я была тем самым навранным человеком в навранном мире, о которых говорила Нина. Я наврала себе, что у меня вполне всё удачно. Что я имею признание в театре, который был для меня не забегаловкой, а прям Большим. Именно так я преподносила себя окружающим.
На самом-то деле я не считала себя перспективной и талантливой, несмотря на то что в мои семнадцать преподаватели театралки обнаружили во мне вторую Джульетту Мази́ну. Трагедия в том, что среди них не оказалось второго Феллини, и я им не поверила нисколечко, и в себя тоже не поверила. Хотя какие-то балерины и Мазины во мне всё же толкались. Ну и чего ж мне было ещё наврать-то себе, как не талант… после того, как меня посчитали странной дурой и поставили на учёт к психиатру?
В детстве я мало интересовалась людьми и могла целыми днями смотреть в потолок и представлять, что это арена цирка и я выступала на потолке с саблезубыми тиграми. И вот однажды, сразу после аплодисментов, родители отвели меня в больницу, где худосочный доктор переоделся в весёленькое трико и стал силачом, рвущим цепи… Я ж не изменилась нисколько. Не считая того, что в моём кармане загремели бутыльки с разноцветными таблетками, которыми я однажды решила травиться перед контрольной по математике, но характера не хватило.
Меня считали странной дурой, потому что мне никогда не было скучно одной. Мне было одиноко, это да… до страшных депрессий и даже истерик, но никогда — скучно. Моей голове неведомо это вовсе. Я представляла жизнь куда-то направленным, исключительно моим, смирным течением и плыла по нему… И не рыпалась. И не дудела в свою дуду. И не ждала, что всё запляшет под мою немую дудку. Мне скорее хотелось станцевать с кем-то вдвоём… с таким же странным, как и я. С кем-то с моего потолка — отдаться танго.
Про мои фантазии знала только бабушка, она глядела вместе со мной на дрессированных тигров и доктора в трико под самой люстрой, и ей было это не до лампочки. Перед смертью она надела на меня белую пушистую шапочку на резинке и отвела в театральную академию. Там нужно было играть этюды — показывать всё, что у тебя в голове и за душой. И я играла, и мне кричали: «Мазина! Мазина!» Потом бабушка умерла… И мой однокурсник, молчун со страшным сколиозом, поправил мне резинку на шапке и прямо с похорон отвёл в экспериментальный театр, где я и работала до недавнего времени. Десять лет работала я там.
И все эти десять лет я горчила себе хлеб по утрам, ела вялый омлет и нюхала чужие свекольники на засаленной кухне. Здесь я научилась путешествовать и понимать рукоблудов. Именно с той коммунальной кухни, держа в руках книжку с видами городов, я ежедневно улетала в Париж, Лондон, Милан… В общем, я хотела весь мир. И кошатница Римма со мной везде летала… И Егорка не раз дымил на меня сигарами и пил не свою обычную сивуху, а гавайский ром через трубочку… И добряк молчун-горбун что-то весело болтал, прям без умолку, и хвастался трапециевидными мышцами спины.
Поэтому, когда Нина сказала мне: «Завтра катим в Дюссельдорф», я не восприняла это всерьёз. Я просто ответила:
— Хорошо. Мне, в общем-то, всё равно, по какому городу гулять… У тебя есть журнал с картинками этого Дюссельдорфа? — потирала я руки.
Моя улыбка развязалась до ушей, хоть завязочки пришей, как говорится… Как только Нина вручила мне мой билет. Из заграниц я однажды была в Финляндии, и больше нигде. И добиралась туда автобусом. В общем, я никогда не летала на самолётах… Да что уж, ни на чём я не летала. И потому улыбалась, как дура. Как будто меня кто-то напугал в секунду счастья и — о счастье! — я осталась такой навсегда. А-а-а-а-а-ха-ха!
— Ты можешь не лететь, тебе может там не понравиться, — вдруг заявила мне Нина со всей серьёзностью.
— Где мне не понравится? В небе? — расхохоталась я.
— Да не в небе, дура, а в отеле, с мужиками. Ты там молчи — может, за умную сойдёшь. Хотя…
Она осмотрела меня с ног до головы и покачала головой.
— Нет. Не сойдёшь. Ладно. Спать тебе там ни с кем не придётся, если только кому-то не припрёт. Так что мажься сажей и держись от меня подальше. Публика там извращённая. В общем… я сказала, что ты моя подруга и мы нигде не расстаёмся. Но, боюсь, меня могли неправильно понять. Понимаешь?
— Ага. Жакет дашь?
— Да, блин… тяжёлый случай. Бери что хочешь. Только перестань лыбиться и будь осторожной. Я не смогу тебя защитить… от них. Не смогу. Ты напорешься, а мне тебя потом лечить. Мне тебя потом не вылечить.
Настороженность Нины меня слегка осадила, но я всё равно ликовала до самого вечера. Даже слегка устала от счастья.
— От счастья можно устать? — спросила я у неё, плюясь зубной пастой и усиленно начищая резцы.
— О боже! — заулыбалась Нина. — От твоей болтовни кто угодно устанет, хотя я с тобой счастлива.
Я не хотела выдавать, что обрадована её словами, но раскололась и опять заулыбалась, как дура.
— Ты вся в зубной пасте, иди умойся. Ну какая ж тупица! — рассмеялась она.
— Ну конечно, можно. Счастье — это тоже стресс, и оно случается реже, чем горе… Непривычней это — быть счастливой… Счастья можно бояться и испортить его к чертям собачьим, и потом горевать, что для человека — привычнее.
— А, па… нятно! — крикнула я из ванной и нечаянно проглотила мятную пену.
Ночью я никак не могла уснуть. Ворочалась с боку на бок, считала овец, потом глиняных свиней-копилок с дырами в рылах… Потом свиньи выросли, пожирнели, состарились и попадали замертво одна за другой перед самым барьером, через который они должны были по очереди перепрыгнуть.
— Сдохнуть от счастья можно, — сказала я вслух. — И аппетит пропал… И сон… блин.
Я встала с кровати, подошла к окну, с безразличием взглянула на сказочный снег, как «с Голливуду». Хмыкнула: «Наверняка он из пенопласта». Опять подумала про Дюссельдорф в завтра, сходила на кухню и нервно сжевала всю карамель «Мечта». Потом заметила, что в ванной не выключен свет, ну и пошла туда. Дверь была приоткрыта, и я почувствовала запах розы и ещё чего-то терпкого. Я раскрыла дверь и увидела в ванной Нину в плеере и с закрытыми глазами.
— Ты что, спишь? Нина! — повысила я голос. — Ты так утонешь… Знаешь, сколько…
Я не успела договорить. Она открыла глаза и, увидев меня, вдруг заверещала.
— Пошла вон! — орала она. — Что тебе здесь нужно? Ты что, лесбиянка? Ты лесбиянка?! Вон отсюда, уродка!
Я выскочила прочь, забежала в свою комнату и, накрывшись с головой одеялом, заплакала. Минут через десять я услышала:
— Не плачь, слышишь? Я просто испугалась.
— Ну извини, — сказала она. — Когда-нибудь… когда ты узнаешь… ты поймёшь, что не стоило на меня обижаться.
— Что я узна́ю? — спросила я из-под одеяла.
— Что значит быть особенно странной, — ответила она.
Грудь распирает от радости, и ещё стучит в висках. Я взлетаю… Я лечу! А-а-а-а!!! Я лечу! Уши заложены, и я кричу Нине:
— Я не лесбиянка! Ты слышишь?
А потом целую её в щёку. Я летаю и целую кого-то странного… не слишком понятного мне человека, кого-то нереального. Гул в ушах.
Она улыбается мне в ответ и молчит.
— Я счастлива! — кричу я ей.
— Я тоже. Только не ори.
Повесть «Макинтош для близнецов» вышла в издательстве Чтиво в 2025 году. Узнавайте о книге больше, скачивайте её демо-версию и обретайте издание на нашем сайте.