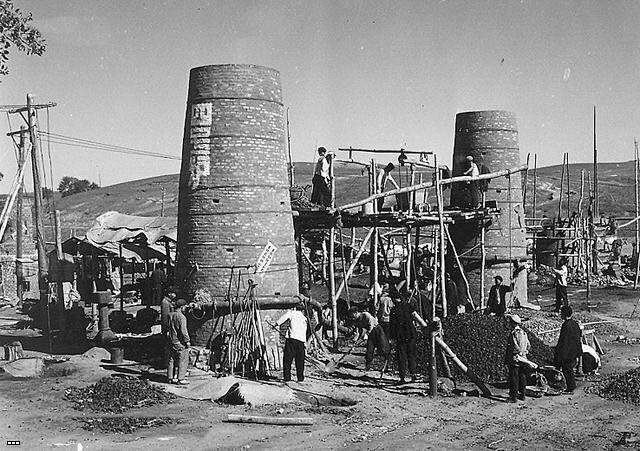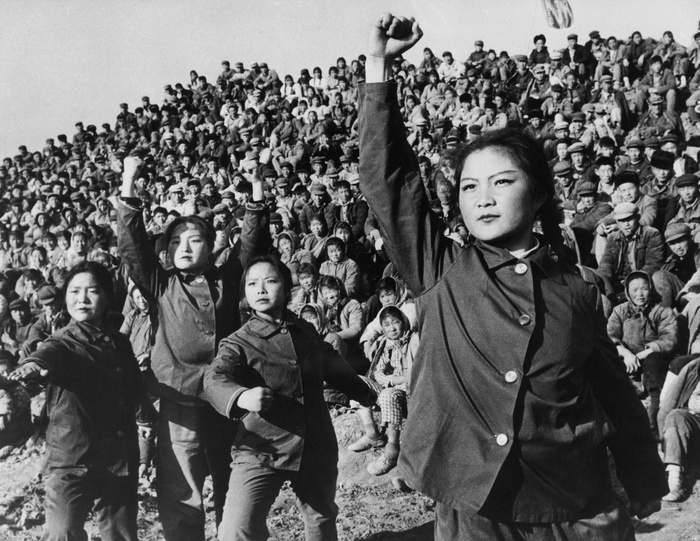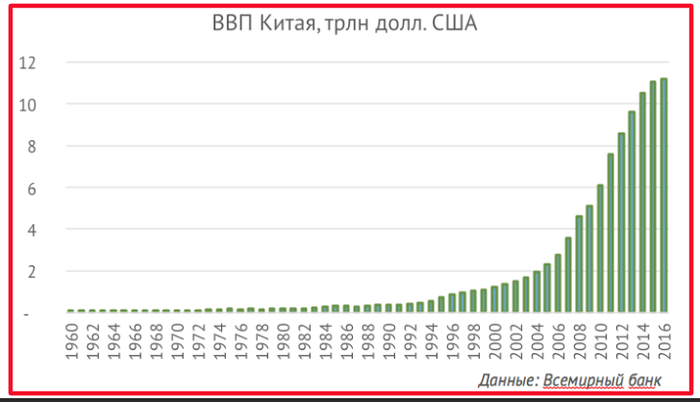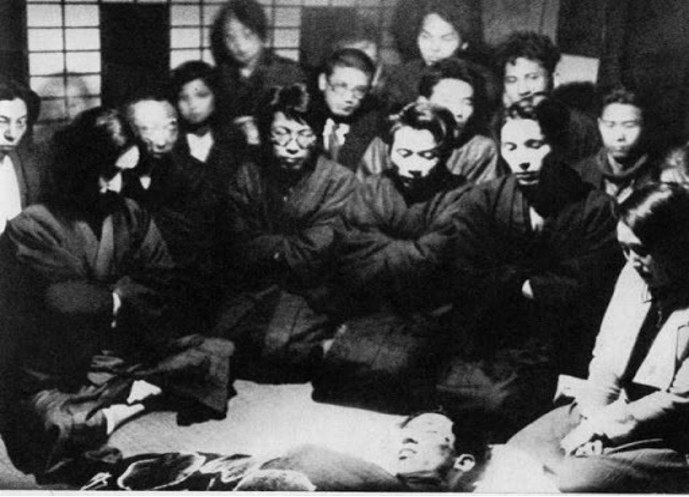Говорят: мы живём в эпоху перемен. Впрочем, это не комплимент. Древние китайцы не зря проклинали именно этим пожеланием: чтобы ты жил в интересные времена. Скучать точно не придётся – но вот понравится ли происходящее, это ещё вопрос.
Ещё в середине XX века австрийский экономист Йозеф Шумпетер описал, как система, построенная на предпринимательской свободе, со временем пожирает саму себя.
Он объяснял это так: если у человека есть выбор – честно конкурировать или прибрать всё к рукам силой – он скорее выберет второе. Поэтому капитализм, развиваясь, неминуемо тянется к монополиям. А там, где возникает монополия – появляется и диктат. Политический, экономический, управленческий. Его ядро – транснациональные корпорации, которым выгоднее не соперничать, а устанавливать правила. А за исполнение этих правил уже следят государства, действуя строго по сценарию корпоративных хозяев.
Чтобы такой порядок выглядел прилично, формируется особая прослойка – левые интеллектуалы, выращенные в теплицах глобалистской идеологии. Они искренне верят в заботу государства о человеке и люто ненавидят средний класс – как главное препятствие на пути к централизованному контролю. Нечто похожее мы уже наблюдали в истории – большевики с тем же упорством вырезали кулаков и казаков, считая их угрозой для власти пролетариата.
Соединяя усилия политиков, корпораций и очарованной «прогрессивной» публики, старый капитализм перегружается запретами и регулированием – и в результате плавно переходит в нечто новое. Формально – социализм. Фактически – нет.
Любопытно, что сам Шумпетер не слишком жаловал Маркса. Но оба – как бы по разным маршрутам – пришли к одной развилке: капитализм сменит социализм. И оба, по-своему, ошиблись.
Маркс считал, что революционные преобразования совершит рабочий класс. Но XX век это опроверг: выяснилось, что большинству рабочих не слишком важно, как называется строй. Им нужны нормальные зарплаты, меньше часов, отпуск летом и чтобы не трогали лишний раз. А идеологические конструкции пусть варятся где-нибудь отдельно – за пределами трудовой книжки.
Шумпетер, в отличие от Маркса, оказался ближе к реальности – но и он промахнулся. Он ожидал, что власть монополий приведёт к социалистической модели, где всё подчинилось бы бюрократии и централизованному планированию. Но вышло иначе: не государство подчинило себе бизнес, а крупный бизнес приручил государство и заставил его работать на себя.
На первый взгляд – какая разница? Те же латы, только по-новому застёгнуты. Но дело в нюансах.
В социализме – даже в его карикатурных вариантах – у общества формально сохраняется шанс на участие. Через выборы, через партии, через возможность давления. Хоть бы и в рамках убогой формы демократии под названием представительная. А вот при приватизации общественных институтов бизнесом такого шанса не остаётся вообще – даже формального. Управление обществом осуществляется за закрытыми дверями корпоративных офисов, куда общество не имеет никакого доступа и, соответственно, никакого влияния.
Так возникает деспотия без лица, без конкретного субъекта, без точки воздействия. Современному эсеру, даже если таковой вдруг найдётся, будет просто непонятно – в кого бросать бомбу.
Вот это и есть подлинный конец истории по Фукуяме. Это – не триумф либеральной демократии, а торжество незаметного, технологически оформленного господства. Сюда добавляется цифровой контроль, искусственный интеллект в управлении и полное исчезновение среднего класса. Зарплаты сокращаются, расслоение усиливается, а социальная значимость отдельного человека стремится к нулю.
ИИ с помощью больших данных подбирает ключ к каждому индивидуально. Демократические институты теряют всякий смысл. Мнение человека больше не нужно – если можно нужное мнение в него загрузить. Почти цифровой коммунизм: каждому по потребностям (и по нажатию на кнопку). Если телевидение вещает по площадям, то теперь у каждого в смартфоне будет персональная телепрограмма – сформированная точно по его вкусу и темпераменту. Одного можно запугать, другого – обнадёжить, третьему – польстить. Всё мягко, ненавязчиво, строго в духе НЛП.
Цифровые деньги – вот настоящий ошейник, с помощью которого и реализуется этот самый конец истории. Конец свобод. Конец частной жизни. Конец иллюзий. Конец накоплений. Конец субъектности.
Все эти разговоры про контроль за госрасходами, борьбу с коррупцией, упрощённое налогообложение и элиминацию бесполезной прослойки дармоедов вроде бухгалтеров, юристов и экономистов – это ширма.
У цифровых валют, помимо полной отслеживаемости каждой транзакции, есть ещё одна удобная функция – программируемость. Можно задать срок годности (не потратил за год – сгорело) или назначение средств (вот тебе сто тысяч: тридцать – на еду, пятьдесят – на аренду, а на оставшиеся гуляй, ни в чём себе не отказывай). Вас ведь прямо предупреждают: цифровые деньги будут окрашенными. Понимаете, что это значит? Это означает полный контроль. Чужая рука – постоянно в вашем кармане. Глобальному бизнесу нужны гарантированные рынки сбыта, а это возможно только при полном контроле над потребителем.
Цифровые валюты по своей прозрачности, виртуальности и программируемости – это уже не собственность, а атрибут гражданина. Наличные можно спрятать, передать, накопить, вывезти, унаследовать, потратить анонимно. А цифровые – нет. Или можно, но по разрешению эмитента.
Одним словом: в случае с наличкой гражданин – владелец. В случае с цифровыми – в лучшем случае распорядитель. А на деле – просто пользователь, допущенный к деньгам временно и на условиях, продиктованных системой.
Повсеместное внедрение цифровых валют меняет саму суть денежного обращения. Деньги приобретают характер социального рейтинга гражданина. То есть человеку будут платить за социально одобряемые действия и штрафовать за проступки.
Представьте себе айтишника, который условно заработал 1 миллион цифровых рублей, получил бонус в 100 тысяч за следование дедлайнам и списание в 200 тысяч – за то, что пьяным справил нужду в общественном месте. На первый взгляд, это не слишком отличается от реальности. С одним исключением: само существование наличных денег и банковской тайны делает такую систему невозможной. А значит, от них придётся избавиться.
Идем дальше. Маркировка товаров индивидуальными кодами не имеет ни малейшего отношения ни к контролю качества, ни к борьбе с контрафактом, ни даже к налоговому учёту. Присвоение каждому товару уникальной метки – это подготовка к цифровой валюте. Создаётся товарная масса, которая может быть использована как обеспечение цифрового рубля.
Стандарт GS1 охватывает около 120 стран, а реально используется более чем в 150. Честный Знак – думаете, для потребителя? Для честности? Для контроля контрафакта? Да нет же. Это из той же серии. Цифровой рубль станет по-настоящему другим видом денег тогда, когда под него будет создано собственное обеспечение – набор товаров, которые нельзя будет купить ни за наличные, ни за обычный безнал. Сейчас эти товары свободно продаются, но в любой момент может быть принято решение, что торговля маркированными товарами возможна только за цифровые рубли.
Глобалисты не случайно устроили тестовый запуск в Нигерии, где внедрение цифровой найры закончилось массовыми протестами и погромами. Вывод: форсированный переход не работает. Население просто уходит в тень. Поэтому переход должен быть постепенным. Сначала – обеспечение, потом сжатие пространства для обычных рублей, и лишь затем – отключение альтернатив. Но прежде – перевести основную массу потребительских товаров на QR-коды. Всё остальное – дело техники.
И вот интересный момент: почему-то принято считать, что образцом цифрового концлагеря является Китай. Между тем Индия – ничем ему не уступает. В стране уже почти десять лет функционирует крупнейшая биометрическая система в мире – Aadhaar. Сегодня в ней зарегистрированы почти 100 % взрослых (кроме высших лиц высших каст, естественно). Каждому гражданину присвоен ID-номер, к которому привязаны отпечатки пальцев и скан радужки. Эти данные используются для получения доступа ко всем важнейшим услугам – от госуслуг до банков. Уже в 2019 году система работала практически без сбоев. Верификация личности занимала не более одной секунды.
А недавно индийское правительство решило, что отпечатков и радужки мало. В систему добавили распознавание лиц. Всё просто – селфи, загрузка в приложение, вуаля. И через три месяца обновлённое приложение уже использовалось для распределения продовольственных пайков.
Думаете, цифровой поводок только для развивающихся стран? Спокойно. Вас система тоже идентифицирует. Вопрос только – когда и на каких правах.
Пару лет назад Германия начала эксперимент с банковскими картами ограниченного применения. Они внешне не отличаются от обычных, но предназначены исключительно для беженцев.
Работают только на территории федеральной земли, которая их выдала. С них нельзя снять наличные, нельзя перевести деньги, нельзя сделать определенные платежи. Только оплата – в транспорте, в магазине, за некоторые услуги.
Примерно десятая часть мигрантов уехала обратно домой. Но внутри страны эксперимент получил полное одобрение обычных бюргеров. Фактическое установление тотального контроля над расходами мигрантов граждане посчитали справедливым. Толпе почему-то даже в голову не приходит, что по такой же схеме (с добавлением срока действия и геоограничений) будут работать цифровой евро, цифровой рубль и прочие цифровые дензнаки ближайшего будущего. Но нет, особо упоротые списывают это на теории заговора. На самом деле, никакой конспирологии не существует.
И опять же, даже многие тут искренне радуются: наконец-то чиновников и прижмут.
Не спешите. У них – депутатская неприкосновенность, дипломатические паспорта, а ещё будут особые цифровые деньги с особыми допусками. А для вас – окрашенные транзакции, срок действия, геозависимость, целевое использование, лимиты.
Итог: невозможность личного финансового планирования, а значит – невозможность накопления капитала. Нет капитала – нет власти – нет угрозы существующей системе.
Многие учились при советской власти и должны помнить со школы работу Ленина "О государстве". Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчинённые классы. Форма этой машины бывает различна. Чиновники этот постулат усвоили отлично. И не только в России.
Просто эксперимент по оцифровке условных европейцев решили начать со второго и третьего миров. Как и с социализмом, про который Бисмарк однажды сказал: Для его строительства нужно выбирать страны – те, которых не жалко.