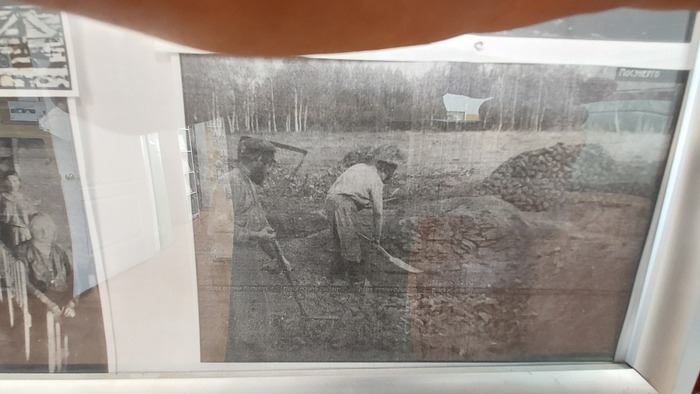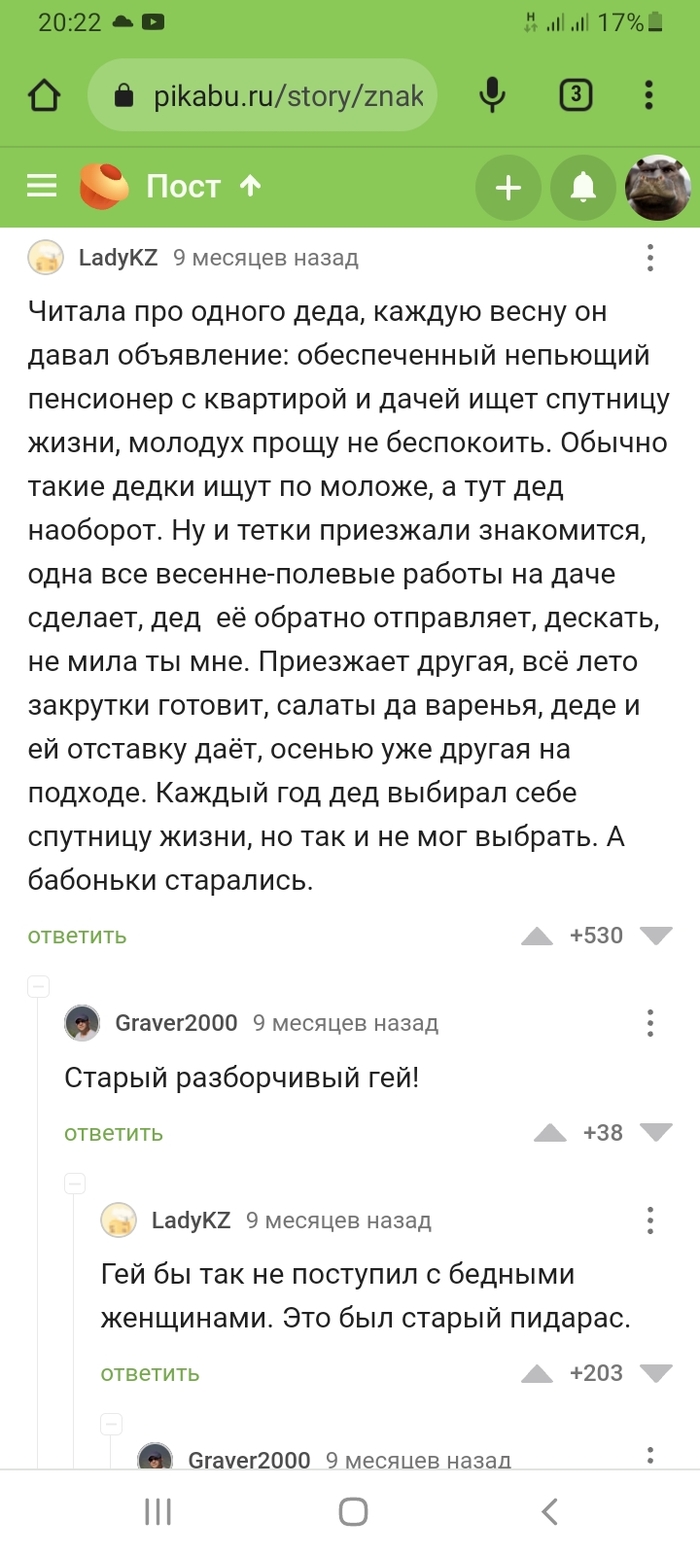История торфодобычи, взгляд с другога ракурса. Часть 3
Элеваторный способ добычи торфа не мог удовлетворить потребности Классона, поэтому он придумал гидравлический способ, он же гидроторф. Сущность способа заключается в том, что торфяной массив размывается струёй воды высокого давления (1–2 МПа), при этом торф превращается в гидромассу с влажностью 95–97%.
Технологический процесс включает:
1) Размыв торфяной залежи струёй воды высокого давления 1) Транспортирование гидромассы по трубам на поля разлива 3) Обезвоживание гидромассы за счёт фильтрации в подстилающий грунт и формирование кирпичей из неё
4) Сушку кирпичей до уборочной влажности 45–40%. 5)уборку воздушно-сухого торфа в штабели.
Мощная струя воды качественно вымывала весь торф из переплетения корней, превращая его в густую, но текучую торфомассу. Но она же вымывала из залежи пни, которые теперь вместе с торфомассой текли к насосу и забивали его входное отверстие или заклинивали рабочее колесо. Пробовали ставить на пути торфомассы разные решётки для задержки пня, но они за несколько минут забивались мусором. В результате рядом с такой решёткой с ячейкой 100х100 мм постоянно находились до восьми рабочих с баграми и пожарными стволами, убиравшие от неё ветки и корни. Чтобы убрать пень от торфососа, в карьер приходилось спускаться рабочему, облачённому в специальный "непромокаемый" костюм. Стоя весь день по колено, а чаще по пояс, в холодной воде, он руками оттаскивал пни от входной воронки насоса. Работа эта была очень тяжёлой – костюм был условно непромокаемым, сделаным из кожи, а работы по торфодобыче начинали сразу после оттаивания земли. Так что человек работал по пояс в ледяной воде. Зачастую эту работу выполняли женщины.
Ситуацию могло изменить внедрение в 1920 году пеньевого крана – подъёмного крана на гусеничном или рельсовом ходу, оснащённого грейферным захватом, которым он убирал пни от насоса. Но кранов зачастую не хватало, да и грейпферный захват мог подцепить далеко не каждый пень, и пни продолжали убирать вручную, стоя в ледяной воде.
Естественно что в таких условиях дизентерия, тиф и прочие болезни выкашивали ряды торфянников.
Вот статистика за 1922 год по смертям, зарегистрированным ЗАГСом пос.Электропередача:
Тиф сгубил - 26 человек
Дизентерия - 33 человека
От сердечной недостаточности - 19 человек
Причем от неё умирали не только старики, но и молодые - такая тяжелая у них была работа.
От водянки умерло 5 человек, от малярии 4 человека и 9 человек от отеков или воспаления легких.
Кстати, с января и до апреля, то есть до начала сезона торфодобычи, в записях о смерти в основном младенцы. Родить ребенка в п.Электропередача практически значило подписать ему смертный приговор. В 1922 в возрасте до одного месяца умер 21 ребенок, в возрасте от месяца до года - 12 детей, в возрасте от 1 до 14 лет - 14 человек. Это связано как с ужасными бытовыми условиями, в которых жили торфяники, так их с их тяжелой работой - дети рождались слабые, недоношенные. Основная причина смертей младенцев - врожденная слабость, вторая причина - "катар. кишок" (не врач, поэтому не знаю как это сейчас называют). Более старшие дети умирали чаще от дизентирии.
Архив за 1921 год начинается с середины года, поэтому статистика по 22му, но в 21м есть один показательный случай - шестнадцатилетний парень умер от истощения. Такими вещами, как детский труд, на торфодобыче не гнушались, брали с 14 лет, просто не оформляли.
Поэтому 15 лет - уже рабочий человек, в возрасте от 15 до 25 лет умерло 35 рабочих. От 26 до 45 - 27 человек, старше 45 - 33 человека, причем из них старше 60 только 11 человек, самый старый из них - 77 лет, второй по сиарости - 65лет.
Статистика смертности по участкам:
Каменный карьер - 17, Липовая грива - 16, Гидроторф - 15, Линевский - 13.
В 1922 пос.Гидроторф еще строился, поэтому он не так сильно выделяется. Но уже видно посёлки смерти - Гидроторф и Каменный карьер, к 1925 году каждая четвертая (если не каждая третья) смерть будет приходится на них. Им в спину дышит улица 4-я категория, на которой в 22 году всего 6 смертей. А вот Липовая грива к 25му станет либо менее населенной, либо более жизнепригодной, но скорее первое - объем торфа в 25 значительно ниже чем в 22.
Кстати, Классон сразу все четко разграничил - улицы посёлка Электропередача были названы: 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Категория. На первой категории жили, по тем временам, небожители. На 4й категории жители имели все шансы быстро стать небожителями в прямом, а не переносном смысле.
Все эти данные есть в отсканированном виде на сайте ЦГАМО фонд 2510. Архив содержит данные с 1921 по 1928 годы. Еще один момент - местом захоронения большинства умерших указано Васютинское кладбище. Но вот могил 1920х годов на нем сейчас почти нет, что показывает отношение советской власти к простым торфодобытчикам
История торфодобычи, взгляд с другово ракурса. Часть 2
В середине 1900х годов промышленность Богородского уезда начинает расти не по дням, а по часам - появляются и растут мануфактуры, фабрики, заводы. Естественно мимо такого успеха наших людей не смог спокойно пройти немец Классон, который уже с 1886 года продавал русским электричество в Петербурге. Здесь, в Богородском уезде, он решил совместить приятное с полезным - жечь в печах землю русскую, вырубать русскую природу и зарабатывать на русских, да причем так чтоб эти русские на него же еще и работали. Естественно что для этих целей он собрал подходящий коллектив: Кржижановский, Винтер, Радченко. Как вы поняли по фамилиям - все они достойные сыны Богородского уезда Московской губернии. Или нет?
В июне 1912 Классон приказывает вырубить вереск вокруг домов и строящейся станции. А в июле того же года случается большой пожар. При этом пожар нанёс незначительный ущерб строительству станции, но совершенно изменил картину местности: вместо непроходимой чащи получилось около 2000 га выгоревшего места. Само болото от пожара не пострадало, так как оно было совершенно сырое — сгорел только верхний моховой покров и лес на болоте. И к осени на месте пожара появляется посёлок для рабочих, а так же площадь для первых торфяных разработок.
Вот это повезло так повезло, вместо того чтобы несколько месяцев вырубать непроходимую чащу, пожар очистил место за неделю. При этом постройки не сгорели, потому что вокруг них предусмотрительно все расчистили, а торф не загорелся, потому что был мокрый. Но, как мы знаем, застройщикам часто так везет - то сгорит дом того, кто не захотел переезжать или заломил цену за свой участок, то загорится памятник архитектуры, который нельзя было сносить. Обычное везение застройщика. А может это было на руку классовому врагу?
Кстати, единственным населённым пунктом на территории нынешнего Электрогорска было урочище Белый мох, крестьяне из которого стройкой и торфодобычей не соблазнились, а продолжали работать на земле. Что очень показательно - вот тебе в пешей доступности хорошо оплачиваемая работа, но они продолжают работать как работали. Видимо уже знали что такое работа на торфах.
Для тех, кто не читал первую серию, напомню. Добыча торфа в те времена была просто каторжным трудом. Люди рыли яму, лили в нее ведрами болотную воду, распускали торф в черную липкую грязь, потом раздевались и лезли в эту яму, вытаскивали пни и корневища, разбивали комья, готовили торфяное тесто. Мириады комаров и слепней тучами поднимались над их головами. Когда тесто было готово, его выгребали наверх и тачками свозили на поля, где сушились торфяные кирпичи
Классон электрифицировал торфодобычу, но условия труда горняков все равно оставались просто нечеловеческими. Добыча торфа в первые годы велась так называемым элеваторным способом, в котором были механизированы только подъем торфа из карьера, перерезание волокон и частично формование в кирпичи. Стоя на ступенях разрабатываемого откоса торфяного карьера, рабочие-ямщики вырезали лопатами из массива куски торфа и бросали их в желоб скребкового элеватора. В торфяной залежи было много пней, и загрузка элеватора сменялась их корчеванием: топорами обрубали корни, артель тащила крепко сидящий большой пень веревкой.
Из элеватора торфяная масса выходила в виде непрерывного бруса на подкладываемые под него на ролики доски, на которых он вручную рассекался ножами на отдельные кирпичи. Доски с торфом весом по 32 кг вручную брались с роликов и перекладывались на этажерочные вагонетки, которые рабочие-вагонщики отвозили по узкоколейным железнодорожным путям на примыкающие к карьеру поля сушки, где вагонщики расстилали торф, а пустые доски складывали обратно на вагонетки. По мере разработки карьера элеваторная машина передвигалась по рельсам , звенья узкоколейных путей переносили вперед.
Однако так называемый «прямой элеватор» не облегчал работу «ямщиков». Они стояли по колено в холодной черной жиже и выбрасывали лопатами за двенадцатичасовой рабочий день тысячу с лишним пудов сырого торфяного теста. Женщины — штабельщицы и подносчицы — перетаскивали тысячи пудов торфа за один «урок».
Еще один факт, раскрывающий нам добродетель Классона: в 1912 с просьбой о строительстве церкви в пос.Электропередача к Классону и Радченко обратились первые строители и добытчики торфа в 1912 году. Им , конечно, обещали. Но руководители проекта Электропередача были латентными революционерами и дружили с большевиками, оформляя их на работу и тем самым пряча от сыскной полиции. Обещание , конечно, не выполнили - церковь появилась только во времена современной России.
А вот начальником электростанции, что при царе, что при Совочке (зайчики мои милые, чтож вас так колбасит то от Совка? Уменьшительно-ласкательно лучше?) была в руках Классона. Естественно потому, что он незаменимый специалист. Но подробнее об этом в следующей серии
История торфодобычи, взгляд с другово ракурса. Часть 1
История торфодобычи в Московской губернии начинается с аферы, причем государственной аферы, поэтому всё по закону. Удельное ведомство Российской Империи присваивает себе все бесхозные болота в московской и соседних губерниях, по дешёвке скупает болота, находящиеся в частной собственности. Все это делается или втихаря или под благовидными предлогами - ну зачем вам болото, одни убытки, продайте государству и не парьтесь. А потом раз, и выкатывает высочайшее повеление о защите (детей) лесов. И если еще вчера ты топил печку дровами, которые рубил в соседнем лесочке, то сегодня только сунься туда - порубят уже тебя. Но чтобы челядь не сдохла от холода, а то в кого ж аристократы тогда будут палкой с какашкой на конце тыкать))), разрешают добывать торф. Где добывать? А вот, пожалуйста, у нас тут болота по сходной цене. Ну да, дороже чем мы их у вас покупали, но если не нравится никто вас не держит, можете купить у других. Нет других? Ну так это не государства проблеммы
Совок кстати леса потом рубил как не в себя, в том числе и под Москвой. И знаете что? Я был в подмосковье, и там не степь и не пустыня, леса хоть опой жуй. Значит помогло высочайшее (нагибалово) повеление
В московской губернии первыми за добычу торфа берутся мануфактуры «Саввы Морозова и Ко» : Никольская, Реутовская и Богородско-Глуховская. И первое болото, которое они покупают - Рюминское болото. Для тех, кто не знаком с историей, для тебя короче, поясню: первый Савва Морозов был крепостным крестьянином помещика Николая Гавриловича Рюмина. На самого Рюмина Морозовым было не залупнуться добраться. До детей тоже - там сплошные девки, а из двух парней один уже помер к тому времени, другой женат был на княжне. И они решили мстить через имущество - типа дед был твоим имуществом, а теперь мы его потомки, купили твою дачу да вдвое дороже чем ты её продал, да еще и наваримся с этого. А может и другая причина была, правды мы никогда не узнаем, но домыслам это не мешает, потому что историю пишут историки.
Первый торф добывался по простому - лопатами вырубали торфяные кирпичи, складывали в корзины и на своём горбу тащили к месту сушки. Там расскладывали, ждали пока он высохнет, потом либо грузили на телеги, либо в вагонетки, которые руками толкали до фабрики.
Условия работы торфяников тогда были сродни каторжному труду: работали часто по колено в воде по 12-16 часов. Болезни были настоящим бедствием этих людей. Малярия, чахотка, цинга выкашивали целые артели. Однако рост фабричного производства требовал все больше и больше торфа.
На добыче появились простейшие элеваторы и формовочные машины, Однако они не намного улучшили условия труда. Как правило, двенадцать-четырнадцать ямщиков лопатами выбирали торфяную залежь на глубину 3-4 метра и лопатами бросали торф на элеватор. При этом вода на дне ямы могла доходить до пояса или груди. После формовки вагонщики вручную откатывали вагонетки с торфяными кирпичами на поля стилки, где они просушивались. Торфяные поселки Морозовых - старейшие в России.
Сезонные рабочие жили там в бараках, спали десятками на нарах, о постельных принадлежностях и речи не было, а даже там где они и были - в них тут же заводились клопы и вши.
Питались рабочие поартельно, а продукты получали в хозяйских лавках. Во главе каждого участка стоял участковый торфмейстер, или смотритель. В одном лице он соединял бухгалтера, администратора и кладовщика, то есть был полновластным хозяином. Мы можем только догадываться, что такая безраздельная власть делала с человеком, и какого было от этого рабочим, которые итак были на положении каторжан.
Кстати, полностью перейти на торф не смогла ни одна крупная мануфактура - во первых его не успевали добыть столько, чтоб хватило до следующего сезона. Во вторых его не успевали весь вывозить с полей сушки. В третьих сухой торф очень гигроскопичен, то есть легко впитывает воду, и даже слегка отсыревший торф уже не горит, а тлеет, выделяя много удушливого дыма. Поэтому дрова все равно приходилось заготавливать, только ездили за ними дальше, а качество древесины было хуже, значит и нужно было её больше.
Кстати, местное население избегало работы на добыче торфа, а если кто и шел, то редко работал больше одного сезона. Поэтому рабочих набирали по соседним губерниям - Владимирской, Рязанской, Тверской. И даже из них половина работала по одному сезону, потому что понимали что любой следующий сезон может стать для них последним.
Для первой серии достаточно. А в следующей серии я расскажу вам как хитрый немец придумал жечь Землю Русскую, построил посёлки на болотах, где люди умирали от болезней, а так же заставил нас дышать дымом даже спустя 90 лет после его смерти.
Продолжение поста «Как я объявил спецоперацию медперсоналу дурки»1
Азалептин (снотворное-нейролептик) мне назначили за отказ помочь деду пописать. Вместе с галоперидолом. По просьбе медбрата, который хорошо ко мне относился, галоперидол через 2 дня отменили.
Экстрасенс мне сказал, что азалептин мне назначили за торговлю людьми в прошлой жизни.
Азалептин я пил до выхода на волю - год или полтора, по 50 мг утром и вечером. К нему привыкаешь, и через 2 недели спать уже не хочется, но если потом спрятать, не выпить, то ночью спать не хочется, ночь пролетает незаметно, настроение бодрое, хорошее.
Как я объявил спецоперацию медперсоналу дурки1
Поступив в психбольницу, я первые 2 года безотказно трудился, выполняя указания санитарок и санитаров - в основном это влажная уборка отделения. Потом меня сосед по палате, бывший лётчик-истребитель учил отказываться от участия в этих трудотерапиях. Набравшись смелости, я решил объявить медперсоналу спецоперацию. Обозначил границы - полный отказ от участия в уборке отделения. Вернее, до болезни пневмонией был частичный отказ, а после того как я переболел пневмонией - я полностью и всецело отказался от участия в уборке отделения. Я понимал, что «на спецоперации как на спецоперации» - могут и уколы аминазина и галоперидола назначить, и в наблюдательную палату закрыть.
Относиться ко мне стали некоторые сотрудники хуже в какие то момент ы, но я старался не обижаться, понимал, что «на спецоперации как на спецоперации»
Активно меня заставляли на протяжении года, потом стали слабее упрашивать, как бы смирившись с тем, что я стойко держусь.
(Кстати, в ТСЖ я активно отказывался от «добровольных» платежей, и также через год стали на меня меньше давить. Период - год.)
Сейчас, спустя 16 лет после моего выхода на волю, кажется, что, встреть я санитара на улице, эта спецоперация наложила бы отпечаток на общение - ведь мир с медперсоналом мной заключëн не был.
Престарелый гомо-сек
Простая история
Придумал тут Василий как делать удобные кресла-качалки, купил за свои кровные инструмент и стал в сарае делать их. Внезапно оказалось, что все хотят такие кресла и Вася позвал своего друга Колю в дело. А у того нет инструмента, придумывать он не мастер, зато рукастый. Вася купил еще инструмента, работают вдвоем. Для Коли Васе пришлось начертить детальки как все делать, чтобы не напутал и не косячил. А у Коли брательник тоже столяр и сидит без дела, у Васи заказов море, вдвоем не успевают, позвали третьего.
"А платить как будешь?" -
"Да сколько продадим твоих качалок, всё твое"
Колин брательник офонарел от такого счастья и давай лепить кресла.
А Вася тем временем зашивается, надо ведь и кресла делать и реализацией заниматься. Хоть ночью работай. Да и кресел теперь он меньше делает, чем братья. Решил он взять продажника.
А как платить ему? Он же кресел не производит.
"А давай процент с продаж, больше продал-больше получил?"
"Ну ок"-говорит Сережа.
Работают, значит, вчетвером.
И тут приходит папа нашего героя.
"Ээээ парень, да ты с твоими друзьями занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью. Надо регистрировать ИП хотя бы, да налоги платить. И с доходов, да и с прибыли своей"
Деваться некуда, Вася как законопослушный гражданин регистрирует ИП.
С грехом пополам разобрался как вести отчетность, сколько и куда платить, открыл расчетный счет.
Тут к нему приходит Сережа:
«Слушай, тут продажи упали из-за того, что ты все время занят. Кресел то меньше делаем. У меня вообще теперь копейки выходят…
Почесал в репе Вася, да и нашел еще двоих хороших столяров. Одному свой инструмент отдал, второму купил.
Но теперь у него новая проблема- места всем не хватает, надо новое помещение делать да побольше.
Пошел Вася в банк, заложил свою подержанную машину, взял кредит, приплюсовал туда свои последние сбережения да и построил неказистый, но теплый цех.
Вроде наладилось все, да теперь у Васи совсем времени нет. То с бухгалтерией сидит, то с арендатором бодается, то над чертежами новой качалки сидит, то ищет запчасти к сломавшемуся инструменту, то с транспортом проблемы, то материалы некачественные…
А еще жена вечно орет что в доме ни отца, ни мужа, ни денег.
Хушь плачь, как говорили герои Зощенко. Вроде довольны его мастера, зарабатывают, налоги платят, в пенсионный фонд на них деньги отчисляют. Только он почему-то внакладе, да по уши в долгах.
Пошел он к мужикам:
«Слушайте, парни. Дело такое, нормальная у вас работа?»
«Да нормально все, спасибо тебе, Вася»
«Рад за вас, только проблемы у меня. Надо мне кредит платить, газелисту задолжал, за электричество тоже. Жена скоро из дому выгонит. Мне или закрываться, или что делать нужно»
«Да что ты Вася молчал то, давай мы тебе будем каждый месяц долюшку отдавать со своих. И на зарплату и на расходы».
Ударили по рукам, Васе полегче стало, да ненадолго.
Опять к нему стучится Сережа-продажник:
«Такое дело, мы на районе тут всех желающих креслами обеспечили, опять продажи падают. «Давай что-то делать. Реклама на область нужна»
Сделали рекламу, да так удачно, что заказов просто завались.
Вася не будь дурак еще людей да бухгалтера позвал, станочки прикупил вместо ручного инструмента, сам сидит придумывает новое кресло да столик к нему-рынок уже переполнился аналогичными креслами с других цехов… Полочку вот новую придумал под стиль кресла и шкафчик. Только вот станок нужен еще другой… Эх, опять Вася лезет в кредит.
Про Васю уж все на районе знают, хвалят его. Места рабочие создал, доходы в бюджет от налогов Васи да таких же как он растут.
Вася теперь предприниматель, 10 лет тяжелого труда, нервов, денег и времени, оторванного от семьи начинают приносить результат.
Новый дом у него и машина вторая у жены. Детей отправил учиться в хороший ВУЗ. В своем поселке да и еще в одном в 50 километрах теперь два больших производства, да сеть мебельных магазинов.
Вася теперь редко появляется на производстве, некогда. То к губернатору, то на форум пригласили, то на благотворительную встречу зовут. Публичный человек, не хрен собачий. То едет к поставщикам решать вопросы, то на выставку надо: с каждым днем что-то новое появляется, нельзя отставать. Новая жизнь у Васи.
Однако вот, по старинке, любит он вечером у дома посидеть в раздумьях.
Тут его и застал девяностолетний дед Егор, присел рядом с ним на лавочку:
«Привет, иксплуататор»
«Привет дядь Егор, а почему эксплуататор?»
«Да жируешь вот, сидишь на шее рабочего класса, ножки свесил»
«Как так, я же сам рабочий класс»
«Вот когда не имел ничего, да на себя только работал, тогда и был им. А теперь ты буржуй»
«Да нет же, я ведь вот этими руками, да своей кровью и своими мозгами все это создал»
«Ну и что? Ты же владелец теперь всего созданного. Капиталист, значить»
«Ну я же ведь людям зарплату плачу, налоги вот. В посёлке нашем жить стало лучше, население растет, у людей деньги появились…»
«Безыдейный ты, Вася. Забыл ты, чему нас марксизм-ленинизм учил»
И пошел себе старый Егор, а Вася задумался.
Наверно он как то неправильно живет, может отдать все на экспроприацию и тогда вообще все будет правильно?