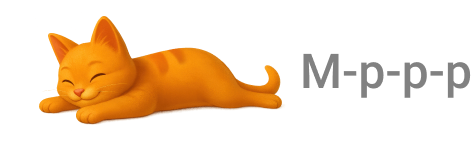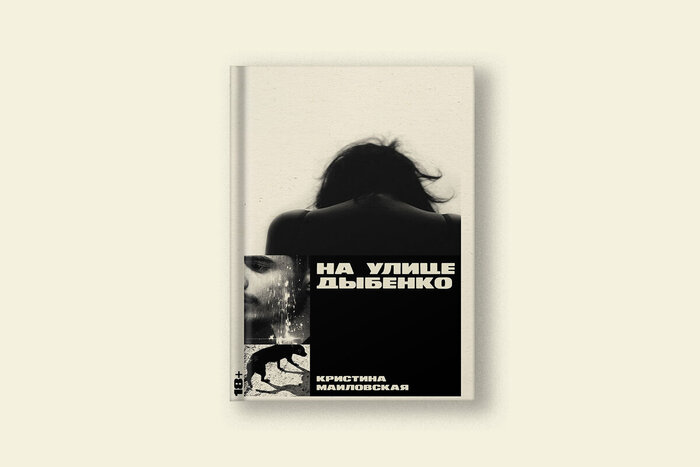Сверху, откуда терапия озоновых упоений и облачных инициалов нынче крайне редко проникает в человекообразность понятий, мои глаза кажутся белёсыми пылинками, погрязшими в художественных размышлениях о бесперебойной ослепительности ландшафта. Сначала не верится, что тебе, обычному человеку, позволено быть частью всех этих красот, а потом становится страшно, что, как человек, ты просто обязан ею быть.
Селение Ореоловый Пируэт, находящееся в регионе К. и совсем недавно выползшее из февральских излишков подвального минуса, в этом году весьма усердно поупражнявшегося в оттачивании наиболее принципиальной стужи варварства, спокойной своей воплощённой географией лежало недалеко от тех противоречивых уголков, где дух звучности Междууфологического водопада, или Междууфологии (этому грохающемуся чуду, исполненному многогранно отсыревшего шелеста, спектральная колоссальность тембров, скомпонованных из мужских, женских и детских видов ореоловопируэтного дружелюбия, любовно и с постоянством загадочного конвейера искренности не уставала давать какое-нибудь лихо расправленное прозвище вроде «наш выдвижной ящичек имени Вдохновенного Бурления»), стремясь продлить самого себя во всех второстепенных и третьезапамятованных кубометрах воздуха, всё-таки сдерживал это почти бесовское жжение какой-то, казалось, совершенно неосиленной природой. Собеседующая близь вечеров местных участников всегдашнего коренного обитания время от времени мягко и вполне прилично погружалась по словесно-слуховую щиколотку в необычный фон, состоящий из миллионов невидимых капельниц неутомимой Междууфологии. Если бы, подойдя к какому-нибудь старожильскому «здесь!», вы с улыбчивой кривизной дьявольщины объявили бы, что дражайшее бабаханье водопада так до сих пор и не впилось бессмертной аудиальной сосулькой в мысленные и эмоциональные вирши, хранящиеся в погребальной осознанности этого человека, то будьте уверены: субъект, поглядев на вас глазомерно-бытовым опытом, изобразил бы на лице перезародыш лёгкой улыбки, но затем, направив этот зачаток энергии в одно из ножных перемещений, мышечной стремительностью перекинул бы гневную конечность трогания — в особенности пункт с анатомически накликанной интуицией под именем «ступня», внезапно и обострённо выставленный, словно порывистая свора копейщика, — в положение, прямо угрожающее неприрученному, изрядно уязвимому заклинанию вашей телесности. И даже если вы дама, бесстрастно повелевающая в рамках своей целостности сразу несколькими несокрушимыми королевствами, в том числе оригинальностью мускульной эстетики, всё равно вышеозначенное движение встреченного вами исконного бродяги, мгновенно превратившегося во владетельный авторитаризм данной ситуации, не оставило бы вам никакой даже мало-мальски симпатичной системы шансов на сохранение внутреннего штиля и внешней готовности к неувяданию уверенных проявлений себя.
Не берусь рассуждать о необходимости нашего с вами мнимого погружения в определённый жизненно-топающий атом Ореолового Пируэта, но чувствую, что одна из таких безоглядных метабиографических частичек уже сама инстинктивно стремится распластать перед нами всю подворотню своих духовных сюжетоподобных странностей.
Собственно говоря, дело в том, что в полдень девятнадцатого марта ореоловопируэтанин Фред Жломменг, уже несколько месяцев на радость бдительным демонам стагнации качающийся в малопритязательной лодочке тридцативосьмилетия, в очередной раз мысленно отбоярился от голосов, многогодно-томуназадно ставших вежливо приглушёнными и теперь способных лишь тихонечко предлагать этому Фре-Жлу отодвигать от жаждущей ауры его рта все находящиеся поблизости тематические спирты с сосудами возвещения. «Вы недоделанные вокальные твари, — думал он в такие моменты, обращаясь к своим глубинным нутряным окликам, — но вы мне помогаете. Так уж и быть, возлюблю вас. По крайней мере выдавлю из себя каплю симпатии и… прицелюсь ею хотя бы в само фонетическое сцепление „возлюблю“». Наш бодрый носитель острот, вечно исхлёстываемый увертюрами алкогольной эксцентричности, принадлежал, кстати, к разряду описанных выше людских угрюмостей, обрамлённых вторичной смешливостью и всегда готовых облечь в красочную хамскую одежду сюрприза какой-нибудь выпуск приветствия, сданный ими же в адрес любого оказывающегося в этих краях чужака. Что же касается упомянутого ментального толчка, пролистанного вплоть до голосовой или даже мелодичной состоятельности, то он позволил Фреду, ветреному стороннику вокальных тварей да их неподражаемых флюидов, легковесно-свободно выйти из дома и, словно из-за несуразности собственного скелета, шкандыбать в пивную «Закормленная оторопь».
В эти секунды повсюду, в каждом узелке невозмутимого кислорода, трепыхалась неизречённая соната, собранная из рехнувшихся певческих подобий грифов, гагар и тимелий, размеры которых были со всех сторон придавлены гневом безымянного геометрического божества (и спасибо тут надо сказать паранормальных дел мастеру Липпу — чей дом находился на самой чёрство-тоскливой и маскулинной окраине Ореолового Пируэта, — да-да, этому маргиналу, давно обещавшему, но так до сих пор и не осмелившемуся вырвать из груди вышеозначенного треугольно-квадратного существа неприлично закруглённое зловещее сердце), и поминутно публикующая посредством клювиков справочные швы уморительности, содержащие описательную детальность тысяч различных семейств скрипично-метафизических ключей. Между тем «Закормленная оторопь», по традициям добрых завес, журчала-заманивала своей всегда родимой для Жломменга успокаивающей жизненностью и столь же философски ласково затрагивала умственную выправку и сердечную стадию его друга Джона Грю́ченара. Зайдя в помещение, знакомое до спиртового крена болевой разухабистости, отражающейся неизменно и самыми невообразимыми узорами во вкусовых микронастроениях проницательных рецепторов, Фред поприветствовал Майка, хозяина этой сбалансированно томящейся пивной, окатив его монументальными облавами здоровающейся испарины, заклеймённой привычками в духе древних ореоловопируэтных «Сказаний о Миловидности».
— Заскочил бы на одну миллисекундную толпу раньше, — разразился замечающей туповатостью Майк, — и тебе посчастливилось бы услыхать скверно дрессированное вторжение грандиозного плана, выкинутого из уст твоего кореша Джона.
— И чего ж он там в очередной раз выдавил из своих извилин, вечно плачущих неким мечтательным гноем? — выстрелил хмуро сформулированным интересом Фред.
Майк подхватил эту задумчивую агрессивность и, дабы соответствовать атмосферке, уже начавшей виляющим формированием позвякивать в словах Жломменга, догадался на первое место в своём ответном зарождающемся слоге поставить в меру строптивый глагол «метать». (Ведь не зря же, успел сообразить Майк, люди, растапливая ледяной счётчик беседы, чуточку сознательно — а в большей степени всё же будучи погружёнными в стервозность безотчётной психической частичности — готовятся напоить грядущие фразы забавно-интеллектуальным духом взаимности. Или обаятельной сопоставимости.)
— Метну, говорит, безвозмездно похищенный из старинных лавочных пространств нож с девятнадцати обыкновеннейших наплевательских шагов прямо в одну из шляп, принадлежащую кому-нибудь из чудил, приковылявших сюда, к питейной нашей трансцендентальной хибарке, или собирающихся вот-вот припереться и пока ещё где-то фигурирующих лишь в качестве неизведанных призраков, занятых поиском тропинки, всей своей сущностью опрокинутой в сторону нашей входной двери.
Тут Майк сделал младшую космическую паузу, дабы позволить памяти вышвырнуть прямо на стойку, сконструированную для нянченья с субстанцией горячительного вожделения, какие-нибудь более-менее красочные детали из разряда тех, что могут мастерски впиваться в ткань бледного речевого рисунка, и спустя секунды три добавил: «Этот дуралей потом ещё и протрещал смутным ртом, пристыжённо жонглировавшим обещаниями, вот что: ножиком громыхну, мол, по не слишком добросовестным хребтам воздуха и чьей-нибудь шляпы таким образом, что тулья обретёт незавидную сквозную трагичность, симптомом которой станут дыры с двух сторон этой мнущейся мадам Висок-Для-Виска. Сторон, пестующих друг в друге исконное Противолежащее».
А Фред-то уже не слушал; проказник-то наш, готовый из всякого жизненного секретера, филигранно замаскированного под сюрреалистический сундук, агрессивно изымать плоды диких колючих вселенных ради того, чтобы вдолбить себе в грустноватый разум хрупкую бутыль с одурманивающей лимфой незнакомых ангелов, Фред-то внезапно оставил на стойке лишь наполовину законченное пивное стихотвореньице, нуждающееся в суровой сиюминутной жажде авторства и дерзновенном подчёркивании волчков, сбивающихся в ротовой полости, и уже летел любопытной бестией прямиком на улицу. Там его приятель Джон шевелениями истошно-сангиновых заплаток в своей курточной материи и засвеченно-кобальтовой тривиальностью штанов, заворожённых энергией изношенности, плавал вокруг какой-то установки, не преминувшей взмыть в обширные взоры Фреда и пропороть ради него скобку шёпота: «Мольберт во мне не умер, но надежде на сугубо индивидуалистское хобби, прелестная оптимистичная окантовка коего отдувается, пришёл-притопал конец». Это и был классический художественный кораблик, который в другие, лучшие минуты, мог бы позволить талантливому творцу пробить масляную брешь в строгой белизне (ведь говорят, что истинный художник — это тот, кто сначала сознательно заходит в тупик, приближается к его шероховатой поверхности как минимум на ручное расстояние вытянутости, затем начинает грунтовать эту безликую твердь, а после освистывает её при помощи цветастой броскости кистей, создавая таким образом наилучший выход и заставляя весь лабиринт втягиваться в эту только что прорубленную пёструю нишу, как в фантасмагорическую воронку), но сейчас, под воздействием угловатого биополя Грюченара, эта деревянная, приправленная волшебной многоугольной скелетностью подставка, взятая в долг Джоном у одного начинающего обожателя мазков и палитр, служила лишь хитроумной сценой для шляпы, давшей свои мятые согласия на ролевую исполнительность мишени. Зрители, разжирев ресничными рефлексами, приведёнными в патологически сосредоточенное настроение фантомом удивительной неумолимости, быстренько растерзали своими оптическими табличками сплетение пространственных волн, чтобы прямо здесь и сейчас вылупилась оптимальная дороженька для встречи Фреда и Джона.
— Тернистыми же, однако, идиллиями прошиб ты крепкую тьму глаголов, из которых я таки выудил пользу, — бестрепетно оседлал Грюченар кипевшие, скакавшие ему в душу мозговые свисты Жломменга. — Теперь, гляди-ка, принимаю сан головокружительного сиюсекундного проказника, предлагающего тебе поучаствовать во вздымающихся перспективах, отпетых в соответствии с затеянными мною муторными обрядами.
— Пытаешься установить контроль над собственной ментальной чертовщиной? — воспитанным образом хохотнул Фред, наш испытатель (как уже было зафиксировано выше) колких инаковселенских лицензий на психоделическую дрёму.
— Заманчивость не в этом, — жахнул надтреснутой добротой Джон, чудной лидер невинных мольбертов, — а в том, что если мои спрогнозированные астральные мальчики, уже готовые сатанеть и заслужившие объединяющую кличку Девятнадцать Шагов, не донесут выбранное мной лезвие до вон того свирепо застывшего головного убора, то карманы мои, ей-богу, свыкнутся с изгибом, по болевым точкам которого от меня сбегут девятнадцать суровых банкнотных старшинств.
— Свинячить здесь такими вот влияниями громкими негоже, — начал обгладывать мудрые предостерегающие анекдоты Фред. — Держи-ка аналитическое квохтанье моего предложения. Оно, находясь под натиском луча твоих ножевых сумасбродств, соскальзывающих, пожалуй, в бесполезность, заключается тем не менее в следующем: ты вешаешь не чью-нибудь, а свою шляпу на склонный к меланхолии крючочек, — с этими словами Жломменг толкнул телепортацию магии, подтянувшуюся было ко взглядам зевак, в точку мольберта, в которой вибрировала некая малая изогнутая деталь, — а я рукой, окутанной противовлекущим естеством цели, с двадцати четырёх отказавшихся кривляться шагов посылаю сверкающую остроту зябко окрысившегося оружия во мрак моих спорных надежд. Если после этого громоподобное кряканье потенциального попадания обернётся фатальным клёкотом промаха, окунающимся в собственные осколки, то мои двадцать четыре шандарахнутых раритетной егозой-выгодностью денежных знака, стараясь перехватить друг у друга ненормально увеличенную прощальную резьбу, начнут вывинчиваться из её искажённых страстей в сторону твоего удовлетворения. Поименуешь ли теперь как-нибудь мысленные картотеки согласия, качнувшиеся вслед за предполагаемой победой твоих личностных туманов выгоды?
Совершенно неудачно проведя в этот миг особо лукавое хитросплетение улыбающейс реставрации, Жломменг разогнал прочность грюченаровских выпархиваний, наблюдавших за страхом самого Джона; и, между прочим, примерно в такой же самостоятельной замызганности, подтверждающей отсутствие у Грюченара должной готовности к описанному выше полупарализованному пари, пребывала толпа. Джон, охваченный тарарамом, устроенным демонами телесной неподвижности, распустил тревожные тысячелистники мыслительного танца и, покружившись на эмоциональном помосте, предназначенном для погрузки воспалённых треволнений, пошёл на странный воркующий таран:
— Крупицы моих стремлений, осаждающиеся на подозрительно шикарных стенках Согласия, только что созрели.
— Учитывая степень и качество звучания твоей первоначальной размягчённой веры в положительные, красивые облака результата, — шандарахнул Фред по невидимой обалдевшей гитаре будто бы марки «Ореоловопируэтный лабух», — сейчас ты перевёл храмы храбрости в состояние весьма фигурно парящего прогресса. Правда, болтовня моя в данный момент уже носит прощальный характер. Решительное хамство горячительности, минут пять назад проникшей в меня в виде чинно шебуршащей пенистой процессии, может превратиться в глыбу и перекрыть поток меткости, которая могла бы сгодиться для ножевого выскакивания, поэтому последнее устроим завтра. Пока.
— Раз. Ха. Два. Хо-хо. Три-хи-хи, — вылетели из Грюченара ухмыляющиеся фигляры, пританцовывая на потеху публике и подставляя самого Джона под ласковые удары, наносимые вяжущими предощущениями робкого, но несколько злорадного осуществления. — Ух ты! Разрази да растолкай меня визг капризнейшей из принцесс, принадлежащих к династии Будильниковых! Кажись, вступает в свои права целый циферблат твоих, Фред, трусливых реторт — да-да, не бутылок, отражающих в себе уважительную причину, какой бы она ни была, а именно реторт! – которым выпала гнилая честь приютить жиденькое искусство твоего малодушия, но которые не сумели даже самыми изощренными химическими варварствами превратить его в эликсир порядочности!
— Вынуждаешь меня… — поколебал свою голосовую простоту Жломменг, невольно начав соответствовать текучим принципам чувственной и в немалых степенях деспотической интоксикации. — Вынуждаешь проклясть мысленные пейзажи, запасённые для того, чтобы делиться ими с тобой в обмен на признание моего права временно пребывать в антураже бурелома, который обусловлен стихийной укромностью разрушительных самооправданий и представляет собой уйму поваленных решимостей вперемежку с некогда благообразно твердевшими обещаниями.
— Зайчишка, прячущийся в гуще мутных кодексов, сливающихся в хлипкое подобие приемлемой этики, — выплюнул Джон в ментальные и слуховые ворота Фреда, осознавая, что вот тут-то и плюхнулось в какую-никакую свершившуюся долю символически мыслимое скрепление ножа с антилитературными изгибами шляпы — только в роли лезвия было фразовое смыкание Грюченаром свитков про зайчишку, а головным убором на миг обернулась ещё не совсем отдежурившая честь Жломменга.
Неловкая, оглоушенная жила откровения, находящаяся у Фреда внутри, примерно в районе накренившихся выключателей солнечного сплетения, и обладающая вполне жизнерадостными симптомами бесшабашности, вдруг быстренько утонула и почти сразу же опомнилась методом всплывания, продемонстрировав сердцу Жломменга свой уже омертвевший лик.
Каждый ли знает, что такое тягостная сигаретная сокровищница? Бешеный силуэт её духа способен высосать энергию гневливости и стыда, слегка заморозив последние гипнотической прелестью. Именно так рассудил Фред, выхватив дыхательную переусложнённость с помощью специальной удочки с фильтром и её суетливых крайних огоньков. Началось дымовое взращивание обиженной прыти, и Жломменг, разобрав на части чёрствый кубик горловых порывов, произнёс:
— Моя мощь доказательств будет сконцентрирована здесь завтра, в полуденном алькове ореоловопируэтного времени, и ты, Джон, невольно ответишь сдавленностью почти половины своих бумажных прямоугольных слуг, привыкших обеспечивать тебя выпивкой и съестным кошмаром незамысловатости.
— Услада твоих вдрабаданских грёз, абстрактность которой ты лелеешь, уходит в расколотое вихляние будущего, — окинул Грюченар взором ухмылки всю создавшуюся катавасию. — Туда же, в этот провальный смерч, отправится и ножик, которым попытаешься громыхнуть по не слишком смышлёным обликам воздуха и шляпы.
— Да раздербань меня самый широкоплечий звукоряд, который когда-либо обживался здесь, в междууфологических окрестностях! – принялся Жломменг сдвигать вокруг своего речевого пламени выдрючивающиеся стены. – Если не суждено мне завтра истребить поганую тулью и придётся оставить триумфальный прицельный шанс в скобках передачи, которая прорвётся к тебе, то… пусть сама Междууфология отсоединит от себя все булькающие проявления и впервые замолчит! Замолчит!!
Наевшись собственной сверхурочной злобы и насмешливых голосовых теней Джона, Фред ударил категоричными шагами прочь. Почти весь остаток дня, в определённый момент трансформировавшийся в хмурые аквариумы сумерек и вобравший в себя, как в дежурную комнату для обволакивания специфических бликов, ссору, звякнувшую между отчаяниями Жломменга и Грюченара, был насыщен отголосками рассуждений о предстоящем концерте сварливых лезвий. Позже, придя домой в одну из минут вечернего погодного оцепенения, Фред решил нанизать силу предплечий и кистей на тончайшую ось тренировки, а именно пару десятков раз метнул в бревенчатое молчание сгусток ножа, сиреневыми и яркими мотыльками то ускользающий от хозяина, то вновь лихо голосящий о верности и завтрашней буре, которая, дескать, должна будет закрутиться вокруг изящной фигурки Точности. Однако ночь, ползая совсем недалеко от равномерно затухающих эмоций Жломменга, отказалась становиться чересчур курьёзной и поскорее приняла облик всеобъемлющей усыпальницы, заодно похваставшись новенькой безумно чернеющей пудрой, порхнувшей множественными крылышками прямо в лицо Фреду и имеющей вид робкого облака, чем-то похожего на громоздкий невозвратимо-глазной механизм, который прилежными реснитчатыми болтиками и шестерёнками отвечал за закрытие, исцеляющееся около забра́ла нервной системы, готовящейся к бою с физиологической парадоксальностью.