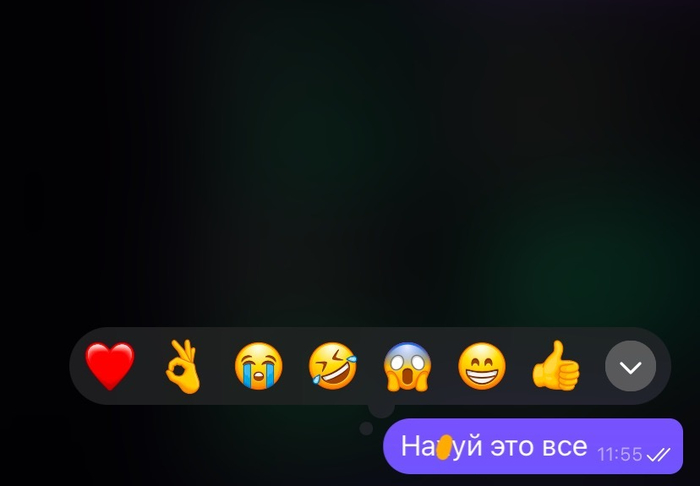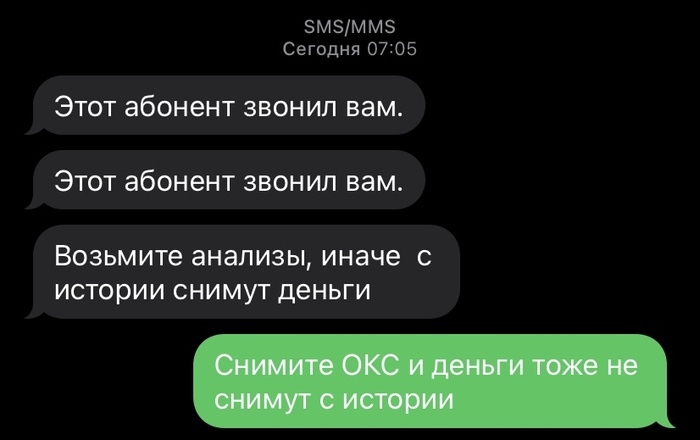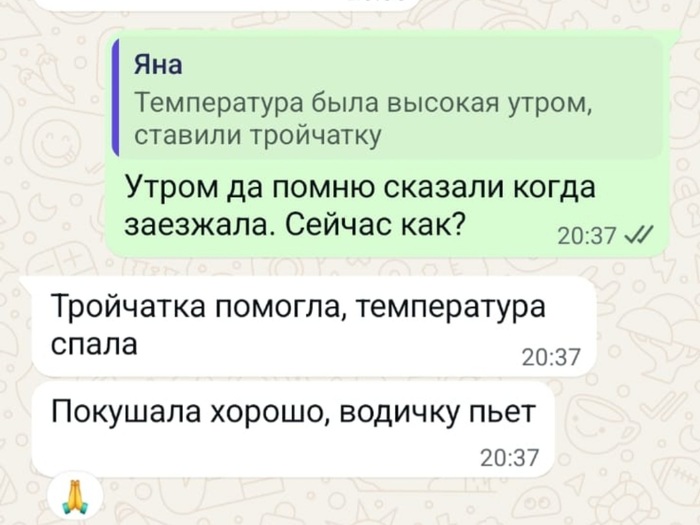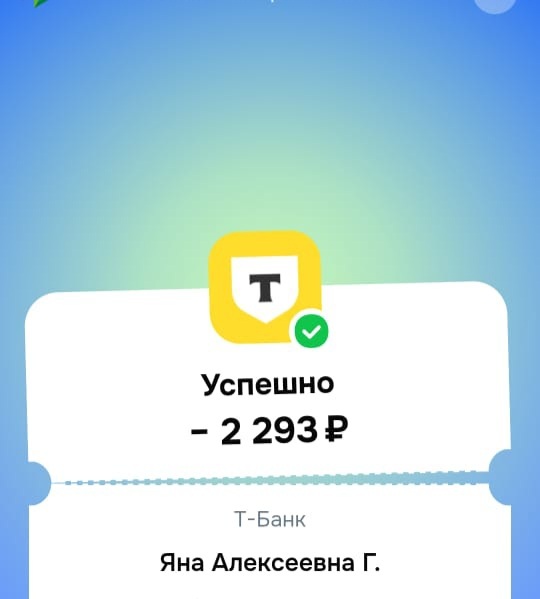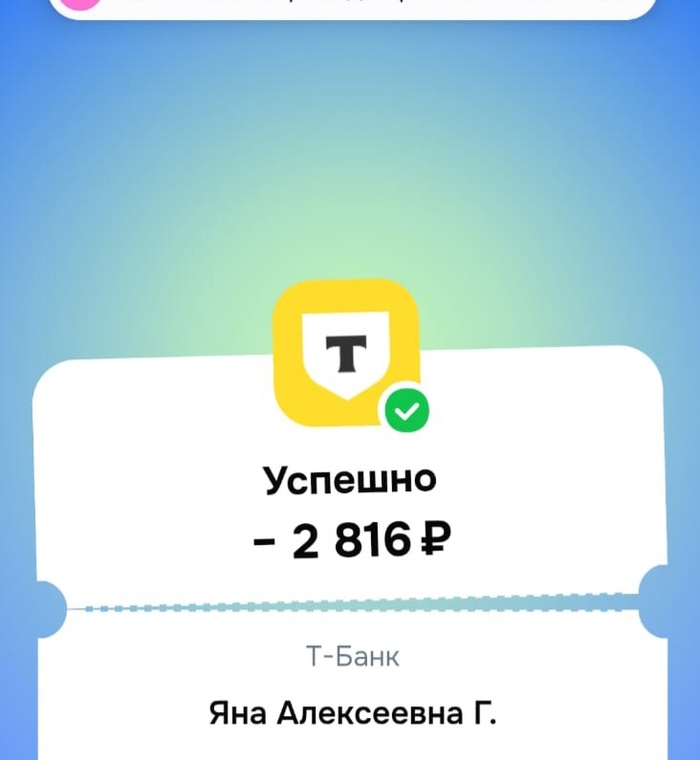Боль пришла ночью. Не та знакомая, ноющая усталая ломота в костях, а что-то острое, клыкастое, впившееся в ребра и не отпускающее. Аня сжалась в комок на своей кровати, стиснув зубы, чтобы не закричать и не разбудить спящих в соседних комнатах. Но тихие стоны все равно вырывались. Лекарства, принятые вечером, казалось, испарились, не оставив и следа облегчения. В комнате стало душно, стены давили. Ей нужно было наружу.
Опираясь на стены, шатаясь, она вышла в коридор. Тишина ночного хосписа была иной – глубокой, пульсирующей, наполненной невидимыми вздохами, скрипами старых полов, чьим-то далеким плачем. В общей гостиной, куда она доползла, горел один ночник, отбрасывая длинные, пляшущие тени. Аня рухнула в глубокое кресло у окна, прижимая кулак к боку, где бушевал огненный шар. Лоб покрылся ледяным потом. Мир сузился до точки боли и темного квадрата окна, за которым спал сад.
Она не сразу заметила его. Макс сидел в другом кресле, в дальнем углу, закрытый тенью. Только слабый отсвет экрана его телефона выхватывал контур согнутой спины и огромные наушники. Но когда Аня застонала, не в силах сдержаться, он резко поднял голову. Экран погас. Он смотрел в ее сторону, но в полумраке она не видела выражения его лица.
Аня замерла, стыдясь своей слабости, своей неприкрытой боли перед этим колючим, насмешливым мальчиком. Ждала очередной язвительной реплики. Но ее не последовало.
Вместо этого раздался тихий шорох колес. Он подъехал ближе. Не вплотную, а на почтительную дистанцию, оставаясь частично в тени. Снял наушники. Не сказал ни слова. Просто протянул к ней одну из больших, черных чашек наушников. Его взгляд в полумраке был нечитаем, но жест был предельно ясен: «Хочешь послушать?»
Аня, не раздумывая, почти выхватила наушник. Ей нужно было что угодно – шум, грохот, крики – лишь бы заглушить этот вопль внутри. Она прижала чашку к уху.
И погрузилась в океан. Но не ярости и металла, как ожидала. А в бескрайнее, холодное, космическое пространство. Звуки текли медленно, как лава: глухой, мерный удар, словно сердце гигантской звезды; протяжный, скрипучий звук смычка по струнам где-то на краю вселенной; эфирные синтезаторные пассажи, похожие на пение китов в бездне; нарастающий гул, переходящий в тишину, и снова – удар. Это была пост-рок симфония. Мрачная, бесконечно печальная, но и невероятно красивая. Она не заглушала боль –она обволакивала ее. Делала ее частью чего-то большего, вселенского. Как будто ее маленький, жадный огонек боли растворялся в этом холодном великолепии звуков.
Аня закрыла глаза, прислонившись головой к прохладному стеклу окна. Слезы текли по щекам беззвучно, смешиваясь с потом. Но это были не только слезы боли. Это было признание. Капитуляция перед невыносимым. И странное утешение в том, что она не одна в этой звуковой вселенной. Он сидел рядом. Молча. Дышал. Просто был.
Минуты текли, отмеряемые ударами этого далекого сердца в музыке. Боль не ушла, но ее острые грани немного сгладились, уступив место изнуряющей, но терпимой тяжести. Аня открыла глаза. Макс сидел, уставившись в темный сад, его профиль был напряжен. Он тоже слушал. Слушал музыку и, возможно, ее тихое дыхание.
– Иногда... – его голос прозвучал хрипло, неожиданно громко в тишине, перебивая мерный гул в наушниках. Он не смотрел на нее. – Иногда я просыпаюсь от дикой боли. Там. – Он махнул рукой вниз, туда, где кончалась его правая нога. – Где ноги уже нет. Фантом. Глупо, да? Болит то, чего нет.
Он произнес это без привычной язвительности, с горьким недоумением. Как будто делился самым постыдным секретом.
Аня осторожно сняла наушник, давая ему понять, что слушает. Музыка теперь лилась только в его ухо.
– У меня внутри, – прошептала она. Голос был чужим, сдавленным. – Как будто стекло. Острые осколки. Или звери, которые грызут.
Макс кивнул, как будто это было совершенно нормальное описание.
– Звери – точнее. Мои фантомы – как стальные когти. Впиваются в то, чего нет. – Он помолчал. – Страшно?
Вопрос был прямым, грубым, как удар. Но именно такая прямоты сейчас была нужна. Без сюсюканья.
– Да, – выдохнула Аня, впервые признавшись в этом вслух кому-то, кроме мамы или сестры Марии. – Не... не самой... уйти. А вот этого. – Она сжала кулак на колене. – Что будет... в конце. Больно ли? Темно ли? Просто... исчезнуть? – Слова вырывались рвано, стыдно, но остановить их было невозможно.
Макс долго молчал. Потом резко развернул коляску боком к ней. Достал из сумки, висевшей сбоку, нечто, завернутое в темную ткань. Развернул. На коленях лежал его протез. Не готовый к носке, а как бы скелет – металлические шарниры, пластиковые элементы, имитирующие мышцы бедра, застежки. Технологичный и безжизненный.
– Знакомься, «Железный Денди», – произнес Макс с кривой усмешкой. – Моя вторая попытка обмануть гравитацию. Первую списали за ненадобностью. – Он провел рукой по холодному пластику. – Когда его надеваю... кажется, что он чует фантомов. Денди, а? Звенит от их когтей. Но это лучше, чем ничего… Лучше, чем смотреть в пустоту там, где должна быть нога. – Он посмотрел прямо на Аню. Его глаза в полумраке казались огромными, бездонными. – Страшно – это смотреть в пустоту. А исчезнуть... – Он пожал плечом, снова пряча «Железного Денди» в сумку. – Мы уже тут, у кромки. Может, это не исчезновение, а выход на орбиту. Или как у твоего Моне – способ поймать другой свет.
Его слова не были утешением. Они были признанием. Признанием общего страха перед пустотой и неизвестностью. Но в них была и какая-то странная, космическая поэзия. «Выйти на орбиту». «Поймать другой свет».
Они снова замолчали. Музыка в единственном наушнике Макса сменилась на что-то еще более эфирное. Боль в боку Ани улеглась до тупого, терпимого фона. Страх не исчез, но отступил, уступив место усталости и странному спокойствию. Она не была одна в этой ночи. Рядом сидел мальчик, который знал о когтях фантомов и звоне «Железного Денди». Который слушал ту же музыку бездны. Который не давал пустых обещаний, но просто был рядом.
Аня осторожно вернула наушник к уху, снова погружаясь в космический поток. Макс не отодвинулся. Они сидели так в темной гостиной, в островке света от ночника, соединенные тонким проводом, музыкой боли и первым, хрупким мостиком доверия, перекинутым через пропасть их страданий. Разговор в тишине оказался громче всех слов, которые они произносили до этого.