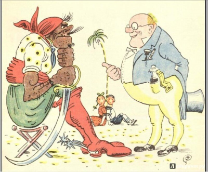
Правильные сказочные герои
217 постов
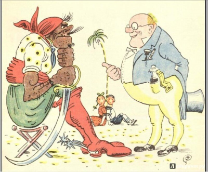
217 постов
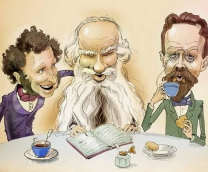
46 постов

24 поста
Кинорежиссер Надежда Кошеверова вполне могла повторить за героиней своего фильма "Золушка": "Мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а радость — молодит".
В 1971 году, на пороге своего 70-летия, она решила экранизировать пьесу Евгения Шварца "Тень" по одноименной сказке Андерсена.
Надо сказать, что со сказками Евгения Шварца у режиссера Надежды Кошеверовой были особые отношения.
Дело даже не в том, что она снимала их трижды - "Золушку" в 1947-м, "Каин XVIII" в 1963-м и "Тень" в 1971 году. Просто со Шварцем ее связывала изрядная часть ее жизни.
Они познакомились в давно ушедшую эпоху, в начале 30-х годов, когда ее первый муж Николай Акимов готовился перейти с должности художника-постановщика на режиссерское поприще, а начинающий драматург Евгений Шварц принес в театр свою пьесу «Приключения Гогенштауфена». Странную сказку о сказочных событиях в советском учреждении, среди работников которого затесались сразу две волшебницы: Упырева — злая, а Кофейкина — добрая.
Автопортрет Акимова и портрет Шварца кисти Акимова
Потом были многие годы дружбы. Когда Акимову впервые дали театр в Ленинграде, Шварц написал ему пьесу «Принцесса и свинопас», позднее переименованную в «Голый король».
И эту самую пьесу "Тень" Шварц тоже написал по персональному заказу Акимова.
Вернее - не писал, бегая от режиссера и ссылаясь на неписун и пагубность работы по плану для мятущейся творческой души.
Но упорный Акимов не сдавался и даже запирал Шварца в гостиничном номере во время гастролей Театра Комедии в Сочи.
Потом Шварц пьесу, наконец, дописал, и премьера "Тени" в постановке Акимова состоялась в последнем мирном 1940 году. Она оказалась едва ли не самой успешной его постановкой.
После войны, в 1947-м, Кошеверова начала работать со Шварцем напрямую. Именно она сделала писателя знаменитым, сняв самый популярный фильм по его произведениям.
Незабвенную "Золушку".
Потом была пауза, а потом... Потом все пошло по тем же пунктам, что и у бывшего мужа.
"Голого короля" они со Шварцем переименовали в "Каина XVIII". Именно так назывался сценарий, который стал для сказочника последним - Евгений Львович умер, не доделав работу и дописывал сценарий легендарный Николай Эрдман.
А "Тень"... "Тень" Кошеверова начала снимать через полтора десятка лет после ухода Шварца и через пару лет после смерти Акимова.
Мне почему-то кажется, что она не старалась повторить успех бывшего мужа. Просто...
Просто с возрастом очень хочется достойно проводить ушедших.
А дать, наконец, свой ответ на вопрос, когда-то заданный Сказочником: "Чтобы не простудиться, надо тепло одеваться. Чтобы не упасть, надо смотреть под ноги. А как избавиться от сказки с печальным концом?".
Но если отвлечься от печального, то, думаю, еще и успех "Старой, старой сказки" свою роль сыграл - окрылил и позволил поверить в собственные силы.
Да, да, настоящие феи от радости молодеют. В конце 60-х - начале 70-х Надежда Кошеверова, несмотря на почтенный возраст, явно переживала творческий подъем и вполне могла "замахнуться на Евгения, нашего...".
Следуя принципу "не ломай то, что работает", в истории про убежавшую тень Кошеверова задействовала практически тот же актерский состав, что и в своей экранизации андерсеновского "Огнива".
В главных ролях - исполнители главных ролей в предыдущем фильме: Олег Даль (Ученый и Тень), Марина Неелова (Аннунциата), Владимир Этуш (Пьетро) и Георгий Вицин (Доктор). Плюс - примкнувшие к ним Анастасия Вертинская (Принцесса), Людмила Гурченко (Юлия-Джули), Андрей Миронов (Цезарь Борджиа), а также Зиновий Герд и Сергей Филиппов в роли министров.
Актерский состав в кошеверовской "Тени" практически идеален - ни одного мисткаста, каждый актер на своем месте и все играют, как собачки лают - задорно, естественно и ненатужно.
Особенно Даль хорош. Он блестяще вытянул обе роли - и Ученого, и Тень. И светлую, и темную ипостась. Не зря актер всегда считал этот фильм одной из лучших своих работ в кино, что при его придирчивости и склонности к самокопанию дорогого стоит.
Но в целом, несмотря на все усилия актеров - шедевра не получилось.
Кошеверовскую "Тень" часто упрекают в недостаточной кинематографичности. Мол, несмотря на отсылку к братьям Люмьер в первых кадрах фильма, картина получилась слишком театральной. Ссылаются на мнение Олега Даля - дескать, режиссер слишком увлеклась павильонными съемками, а нужна была натура. Чтобы свинцово-черное море и свет Луны, чтобы плящущая Тень по крымским скалам прыгала, чтобы жуть и драйв, а не вот это вот все.
В этих претензиях есть резон. Кошеверова действительно сделала фактически фильм-спектакль. Да, хороший - но фильм-спектакль, со всеми родовыми болезнями этого жанра.
К примеру, в стремлении максимально сохранить текст Шварца, сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид забыли старую истину - то, что нормально и даже хорошо смотрится на театральной сцене, на киноэкране может показаться невыносимо долгим и на редкость занудным.
Нельзя, конечно, сказать, что сценаристы совсем не вложились - для этого они слишком большие мастера. У них было было немало собственных удачных находок. "Ложитесь спать, честные горожане! Разбойники и воры, выходите на работу!" или "Это зрителей ведут на премьеру новой пьесы. Вы не волнуйтесь, их потом отпустят" - это не Шварц. Это Дунский и Фрид.
Но, согласитесь, даже шутки какие-то театральные.
А, самое главное, Кошеверовой в "Тени" не хватило оригинальности.
Этот фильм был для нее данью памяти близких людей и она, сама того не желая, переборщила с бережливостью и осторожностью.
А так нельзя. Как блестяще сформулировал наш замечательный критик Станислав Рассадин: "Есть один естественный парадокс: подлинную верность первоисточнику можно сохранить, лишь имея собственный взгляд на него".
Но все-таки...
Если "Тень" 1971 года и фильм-спектакль, то это хороший фильм-спектакль.
Реально хороший.
Господи, как же они там играют - все это собранное Кошеверовой созвездие актеров! Вот уж поистинне - "так же естественно, как дышать". На их игру смотришь - как ключевую воду пьешь.
У них на лицах читается:
О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом
два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно…
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Это великое поколение актеров тогда было еще даже не на пике, а на взлете. По нынешним меркам в "Тени" - очень молодой актерский состав.
Нееловой-Аннунциате - 24, Вертинской-Принцессе - 27, Далю-Ученому/Тени - едва-едва 30,
Миронову в роли продажного журналиста и людоеда - тот же тридцатник.
Гурченко! Гурченко, исполняющей роль подувядшей местной дивы Юлии-Джули - 36 лет!
И это очень правильно.
Ушедших должны провожать Молодость и Жизнь.
Те, кто пришел.
_________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Федору Ивановичу все время не везло: его никто не помнил. Начать с того, что на самом деле был он не Федором Ивановичем, а Герардом Фридрихом, потому как являлся урожденным немцем, появившимся на свет в городишке Герфорде, что в Вестфалии, а Федором Ивановичем его обозвали уже неспособные к языкам россияне. Но это все всуе, потому что на деле никто не помнит ни русского, ни немецкого имени. Что до фамилии, то фамилия его была Миллер, а в Германии, как известно, иметь фамилию Миллер – все равно что не иметь никакой
Текстовая версия ролика здесь - Как немец студента на Камчатку загнал
По поводу Овечкина. Что-то брызги слюны непримиримых патриотов с их криками: "Да какой он русский?!" долетели даже до меня.
Осмелюсь напомнить, что жил однажды человек, который еще в 19 веке много писал про Россию и Запад.
Например, так: "Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал.
России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».
Или вот про русофобов: "Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей — кстати, весьма почитаемых.
Раньше они говорили нам, и они, действительно, так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д., и т. п., что потому именно они так нежно любят Европу, что она, бесспорно, обладает всем тем, чего нет в России.
А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, всё более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается.
И напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации, которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили их пристрастия к ней".
Еще он писал стихи. Вот такие, например - "Русская география":
Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам их судьбы обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.
Или хрестоматийное:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Так вот - к чему это я.
Этот человек прожил за границей еще дольше Овечкина - 22 года.
И тоже по работе.
Перестал ли от этого Тютчев быть русским?
Вопрос риторический.
Девочка Алиса из сказки когда-то сказала: «Кому нужны книжки без картинок?». Абсолютно верно – никому. Дети были согласны с ней до такой степени, что картинки в книгах воспринимались как должное, и если фамилию автора мы иногда все-таки запоминали, то художник всегда оставался безымянным
Текстовая версия ролика здесь - Геннадий Калиновский: «Надо забыть себя…»
(акынство, работать не хочу)
Все-таки мемуары художника Константина Коровина - это шедевр. Вот честно, прочитав практически все его тексты - не могу определиться, в чем он был больше талантлив - в живописи или в литературе.
Совершенно шикарный эпизод про то, как долбанутый гений Врубель взял халтуру.
Контекст - и Коровин, и Врубель еще молоды и никому не известны, денег у них нет, заказов нет, поэтому вынуждены вписываться во всякую фигню.
Они случайно знакомятся где-то в Полтавской губернии, куда Коровин приехал подхарчиться у родственников, а Врубель работает гувернером.
_________________
Утром Врубель начал писать с фотографической карточки покойного сына хозяев дома, где мы гостили. Он взял у меня краски: желтую, черную, зеленую и киноварь. После обеда Врубель позвал меня смотреть портрет. Пошли все. Военный дядя стоит, горячится и говорит: «Не кончено еще, не кончено». Он махал руками и говорил «не кончено», вроде как испугавшись чего-то. Врубель написал желтой охрой с зеленой (ярким центром губы киноварью) византийскую форму, как тон икон, с обведенными кругами подобно новгородским ликам Христа.
Было красиво и особенно. Мальчик был похож, но жутковато смотрел белыми зрачками. «Как интересно», — сказал Михаил Александрович. Все молчали, потом пошли на террасу пить чай. Дядя говорил: «Не кончено еще, а вот Маковский, тот — раз и готово».
Хозяйка сказала мне: «Скажите вы Михаилу Александровичу, я ему все говорю — ведь у Коли были голубые глаза, а он делает белые». — «Потом, матушка, он сделает голубые: еще не кончено», — говорит дядя, искренне желающий, чтобы все было по-хорошему.
По всему было видно, что портрет Михаила Александровича взволновал весь дом. Стало тише, невесело, перестали говорить анекдоты, слушая которые от души смеялся Михаил Александрович, и даже сам рассказывал анекдот, что к нему совершенно не шло, и рассказывал невозможно плохо.
На другой день портрет был переписан. Лицо бело-голубое, в два раза больше натуры, глаза зеленые, зрачки черные. Он был весь мягкий, как вата, как облако. Дядя умолк. За обедом вздумали рассказать анекдот, ничего не вышло — мимо. А я смотрел на Михаила Александровича, на его английскую выправку и думал: «А замечательный ты человек» — и посмотрел ему прямо в глаза. Вдруг Врубель сказал: «Константин Алексеевич, выпьем с тобой на „ты“». Я принял с радостью предложение. «Я Моцарт, — сказал мне на ухо Врубель, — а ты не Сальери, и то, что делал я, тебе нравится, я знаю».
На другой день дядя поймал меня в саду — я писал мотив, маленький этюд, — подошел ко мне и сел рядом. Я бросил писать, тоже сел на лавочку, которая была около. Дядя вздохнул. «Ну, что же это такое, Константин Алексеевич, — с укором в голосе начал дядя, — ведь его просят, все говорят, все — у Колечки были ведь голубые глаза, так зачем же он сделал зеленые? Ведь Михаил Александрович — воспитаннейший, культурнейший человек, ведь вы видите сами... И потом, голова очень велика! Я ему говорю: „Михаил Александрович, голова очень велика и глаза нужно голубые“, и дал ему честное слово, что так было. Знаете, что он отвечал? — Это совсем не нужно!»
Но при этом, надо заметить, характерно то, что этот дядя, простой и добрый человек, столь озабоченный и обеспокоившийся Михаилом Александровичем, даже не вздумал посмотреть, что я писал тут, около него.
К вечеру портрет был опять желтый, но другого тона, с дивным орнаментом герба сурикового тона, но такого орнамента, что я никогда не видел.
На другой день портрет опять для всеобщего удовольствия был просто нарисован с фотографии, очень скоро и очень просто раскрашен, с голубыми глазами.
Все были в восторге. Орнамента, герба не было, был простой коричневый фон. Дядя сказал: «Ну вот, я прав — теперь окончен», целовался с Михаилом Александровичем.
Все были веселы и довольны".
_____________
Вы думаете, на этом все закончилось? Если бы. Лет пять спустя:
______________
Надо заметить, что в это лето мы, я и Михаил Александрович, как-то со всеми поссорились — что-то было острое, все возненавидели, и вообще жизнь наша считалась не положительной. Нужда схватила нас в свои когти, и мы целые дни сидели в мастерской <...> иногда ходили в Петровско-Разумовское, где много говорили, а потому не скучали и были довольны смехом, который не покидал нас, дружбой и исключительной новизной.
Но жилось тяжко — нужда, никакой работы.
В одной семье были именины, и дворник дома передал нам, что господа просят написать что-то. Михаил Александрович пошел и потом писал на голубом коленкоре, выводя орнамент и <...> буквы, следующее: «Николаю Васильевичу слава!», «Боже, Левочку храни!», «Шурочке привет!»
Получено было за это произведение десять рублей. Но как написал Врубель, какой особенный был шрифт — свой, и какой! И тут Михаил Александрович проявил свой необыкновенный дар графической черты и формы. Потом мы только и говорили: «Шурочке привет! Боже, Левочку храни!» Вскоре я стал писать декорации, а Михаил Александрович панно «Фауст».
_________________
Кстати, вы знаете, при каких обстоятельствах был написан знаменитый портрет Коровина работы Серова - третьего друга в этой гоп-компании?
Это, если не путаю, 1891 год. После неожиданной смерти сына Мамонтовы решили сменить обстановку и уехали путешествовать в Европу, а все прижившиеся у них художники - безденежные доны - разбрелись по Москве.
Врубель прибился к Кончаловским (прадеду Никиты и Андрея Сергеевичей), а Серов с Коровиным сняли мастерские по соседству, причем Коровин страшно гордился тем, что сторговал за свою много дешевле Серова.
Но зимой выяснилось, что мастерская Коровина не отапливается - почему и сдавалась так дешево. Серов тогда получил жирный заказ на портрет императорского семейства от дворянского собрания губернского города Харькова, а Коровин стучал зубами, как никогда в жизни - во всех смыслах.
Именно в той мастерской его - для фана и вечности - и рисовал Серов. Как жаловался потом Константин Алексеевич: "И, главное - в жилетке ему надо было позировать! У меня эта жилетка уже к стене примерзла, а он все рисует и рисует...".
Потусовавшись немного в юности с художниками, я понял, что ни фига в этом мире не меняется.
Нового Врубеля, правда, среди моих знакомых не оказалось.
Но несколько хороших художников было.
Дай им бог здоровья.
_________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Евгений Шварц - очень добрый сказочник.
Умный - это важно. Но, несмотря на это - все-таки добрый.
На наше счастье.
Почему на наше счастье?
Потому что ум и доброта в комплекте встречается очень редко.
Добрых авторов - очень много. Особенно среди пишущих сказки. Они еще и очень трудолюбивые - пишут и пишут свои утипусечные пушистенькие сказочки с добрыми и злыми персонажами, ванильными диалогами и назидательной моралью... Пишут, не понимая, что сказка - самый сложный жанр, который и мастеру-то дается через раз. Они бы весь мир затопили своим сиропным творчеством, но их сказки почти никто не читает.
Умных авторов много меньше. И их обычно читают. Но тут другая проблема - умные авторы, как правило, не испытывают иллюзий ни относительно мира, в котором мы живем, ни относительно людей, его населяющих. При таких вводных остаться добрым очень трудно, практически невозможно, поэтому умные авторы - мизантропы по определению. И количества желчи, которые они стравливают в свои книги, хватило бы на небольшой бассейн. Поэтому умных интересно читать, но по прочтении от передоза сарказма и иронии хочется уйти в еловый лес. Если вы, конечно, помните эту поговорку.
И очень редко встречаются люди, которые все понимают, но все-таки сохраняют свет внутри.
Знаменитая сказка "Тень" написана умным человеком. Ганс-Христиан Андерсен был настоящим сказочником, но иногда он уставал от звенящей пошлости окружающей среды и начинал писать умные сказки.
А пьеса "Тень" написана человеком, сохранившим в себе доброту, поэтому и является не просто антитезой, но и яростным опровержением мрачного датчанина.
Поначалу все идет как по Андерсену. Молодой ученый по имени Христиан-Теодор, южный городок, сезон, туристы, гостиница, полный пансион и любопытные местные - милая горничная Аннунциата, городская фэм-фаталь Юлия-Джули, шумные приятели отельер и журналист, подрабатывающие оценщиками в городском ломбарде, забитый жизнью и женой доктор...
И только потом выясняется, что ученый, как в анекдоте - в сказку попал. Как пояснила по секрету Аннунциата, свою сказочную сущность горожане умело прячут от отдыхающих. А так... Спящая красавица, пока не умерла, жила в пяти часах ходьбы от табачной лавочки, – той, что направо от фонтана. Людоед до сих пор жив и работает в городском ломбарде оценщиком. Мальчик-с-пальчик женился на очень высокой женщине по прозвищу Гренадер, и дети их – люди обыкновенного роста.
Сразу вспоминается Король из "Золушки": "Старые друзья, конечно, штука хорошая, но, к сожалению, их знаешь уже наизусть. Например, Кот в сапогах - славный парень, умница, но как придёт, снимет сапоги и спит где-нибудь у камина, не попрыгает со мной, не побегает. Или, например, Мальчик-с-пальчик. Всё время играет на деньги в прятки. А попробуй найди его. Обидно. А главное - у них всё в прошлом, их сказки уже сыграны, между тем, как вы... Поверьте сказочному королю - вы стоите на пороге удивительных событий".
Вот только, в отличие от Короля, Аннунциата не радуется появлению нового героя сказки, а тревожится и просит ученого сохранить все в тайне. А когда тот удивляется этой просьбе - поясняет: "Не всем нравятся сказки. Если бы к нам ездили дети, то так бы оно и было. А взрослые – осторожный народ. Они прекрасно знают, что многие сказки кончаются печально. Вот об этом я с вами и хотела поговорить. Будьте осторожны".
Потому что это не милая "Золушка", а совсем другая история. Второе действие тот же ученый завершит репликой: "Аннунциата, какая печальная сказка!".
И это правда - я же говорю, все идет по плану Андерсену.
Красивая девушка на балконе напротив. Тень, отправленная с поручением и исчезнувшая с концами. Знакомство с прекрасной принцессой. Возвращение Тени, принявшей имя Теодор-Христиан и ставшей соперником и в жизни, и в любви. Жизнь, стремительно летящая под откос сошедшим с рельс поездом...
Предательство любимой.
Предательства друзей.
Возвышение зла - Тень женится на принцессе и становится правителем.
Ненавязчивое предложение стать тенью Теодора-Христиана.
Приглашение на казнь.
Казнь.
И если у Андерсена на этом - трагический конец, то у Шварца - лишь переход к счастливому финалу.
Хэппи-энды, как известно, бывают самые разные - от предсказуемых голливудских до переворачивающих все детективных.
У Шварца мы наблюдаем самый редкий их подвид - неожиданный, но органичный. Не вызывающий в памяти образа рояля, натужно выкатываемого из кустов.
Сейчас поясню, о чем я. Самая популярная фраза из пьесы Шварца: "Тень, знай свое место!". Ее обожают цитировать и всегда вспоминают, как действенный и универсальный способ борьбы с Тьмой.
Но ведь это не так.
Это заклинание, которому научил Ученого добрый, но слабый и потому сломленный Доктор - действительно работает. Оно и впрямь заставляет Тень ненадолго занять подобающее ей место - у ног.
Вот только в пьесе, напомню, посылание Тени на место абсолютно ничем не помогает Христиану-Теодору. Придворные очень быстро нашли объяснение произошедшему и легитимность правителя ни капельки не пострадала.
А вот ученого именно после этой выходки и отправили на казнь - как "потерявшего берега".
Волшебным заклинанием Тень можно заставить, но невозможно победить. Насилие в принципе не лучшее средство в борьбе с Тенью.
Чем же тогда вы предлагаете побеждать Тень?
Ответ Шварца - искуплением. Не насилием, но страданием. Извините - умерев и воскреснув. В самом прямом смысле слова - когда в пьесе ученому отрубают голову, голова исчезает и у Тени, после чего придворным приходится срочно воскрешать оригинал живой водой.
Да, да, вы все правильно поняли. Для самых непонятливых Шварц даже главную героиню назвал Аннунциатой - так на латыни звучит Благовещение. "Тень" - вообще самая религиозная из всех пьес Щварца, но это тема отдельного разговора.
В общем, главные слова пьесы - это не "Тень, знай свое место!", а чуть более ранняя реплика Ученого: "С одной стороны – живая жизнь, а с другой – тень. Все мои знания говорят, что тень может победить только на время".
И Фриц Эрпенбек, выдающийся немецкий критик, после невероятного успеха постановки "Тени" в послевоенном Берлине в 1947 году очень точно резюмировал: "Гениально утонченный, гуманистический смысл этой пьесы таков: жизнь потому и побеждает зло, что зло это лишь тень жизни, враждебная, но в конечном счете ЗАВИСИМАЯ от всего глубоко человеческого".
В общем, все как в старых стихах:
Эзоп лампадой освещал;
А басня кистию тень с истины снимала...
_________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Дочка, делая уроки, недавно спросила у меня: "Папа, а что такое "загадка истории"?". Я задумался, а потом рассказал ей вот про что.
В Государственном историческом музее есть маленький зальчик под № 17, посвященный истории Сибири в XVI-XVII веках. В одной из трех витрин этого зальчика лежит экспонат, немного неуклюже обозванный «Клинок шпаги»...
Текстовая версия ролика здесь - Клинок, прошивший континент, или 1601 гот
Эта цепочка состоит из трех книг.
Сначала идет «Удивительная история Петера Шлемиля» Адельберта фон Шамиссо.
Вынужден напомнить, что Гофман и Гауф со своими страшными сказками были лишь частью куда более многочисленного и разнообразного явления, оставшегося в истории как "немецкие романтики".
А одним из наиболее ярких немецких романтиков был Адельберт фон Шамиссо, пусть он и был не совсем немецким.
Почему? Потому, что первые годы жизни его звали Луи-Шарль-Аделаид де Шамиссо де Бонкур, и он урожденный француз, ставшим немецким писателем и ученым.
Родители-аристократы, спасаясь от гильотины, бежали в Германию из революционной Франции, когда он был еще подростком. Бежали практически в чем были, поэтому, когда мальчик подрос и закончил гимназию, ему пришлось ради денег завербоваться в прусскую армию. Это было особенно тяжело, поскольку воевать пришлось против своих же французов.
В общем, провоевав несколько лет, Шамиссо вышел в отставку при первой же возможности и нашел себе место учителя, а когда после реставрации семья вернулась во Францию, он, к удивлению всех, прикипев душой к немецкой культуре, с ними не поехал, а навсегда остался в Германии.
Шамиссо стал известным ученым - ботаником и зоологом, открывшим, в частности, явление метагенеза - чередования бесполых и размножающихся поколений (на картинке - метагенетический жизненный цикл сцифоидных медуз).
При этом Шамиссо вовсе был не кабинетным ученым - в 1815 году он принял приглашение отправиться в качестве естествоиспытателя в кругосветное плавание и три года колесил по миру от Сибири до Полинезии и африканских островов на русском бриге "Рюрик" под командованием капитана Коцебу. Русский язык, кстати, за эти три года он выучил в совершенстве. Да, и русский матерный - тоже.
Вот бриг «Рюрик» у острова Святого Павла на акварели Людвига Хориса.
Но наукой деятельность фон Шамиссо не ограничивалась - как я уже сказал, онемечившийся француз был известным и даже знаменитым писателем-романтиком. Много переводил на немецкий с русского и французского. Сочинял как прозу, так и стихи, иногда очень удачно. Достаточно вспомнить, что его баллада «Ночная прогулка» (Nächtliche Fahrt) в русском переводе стала народной песней «Окрасился месяц багрянцем».
Но главной книгой, которая и вписала его в историю, стала повесть «Удивительная история Петера Шлемиля». Фамилия, кстати, говорящая - от этого же корня происходит еврейский "шлемазл" - неудачник, растяпа и лошара.
Эта повесть появилась после одного забавного эпизода - Шамиссо путешествовал по Германии в компании с другом - бароном Фридрихом Генрихом Карлом де ля Мотт Фуке, потомком таких же французов-эмигрантов (правда, бежавших в Германию не от революции, а от резни гугенотов), и таким же писателем-романтиком, автором знаменитой сказочной повести "Ундина".
Однажды они на день расстались, а когда вечером встретились, выяснилось, что рассеянный Шамиссо потерял практически все, что брал с собой: рюкзак, плащ, шляпу и носовой платок. Вы в курсе, про какую часть тела его бы спросили у нас, но это были немцы. Поэтому развеселившийся барон Фуке поинтересовался: "А тень ты свою не забыл?".
А Шамиссо не обиделся, а задумался - а действительно, что бы было, если бы он потерял тень? В результате раздумий на свет появилась страшная сказка для взрослых, которые всегда особенно любили немецкие романтики.
Юный, наивный и очень бедный молодой человек Петер Шлемиль случайно знакомится с таинственным человеком в сером. Тот поминутно совершает чудеса, доставая из кармана все, вплоть до запряженной кареты, но на это почему-то никто не обращает внимания.
Знакомство заканчивается тем, что наш шлемазл отдает Человеку В Сером свою тень в обмен на волшебный кошелек Фортунато, в котором никогда не заканчивается золото. Да, да, я тоже сразу вспомнил проданный смех и мутного господина в клетчатом. Немчура же, что еще скажешь. У них все мысли об одном.
Вскоре после этой сделки Петер понимает одну неочевидную вещь: если твою проблему можно решить деньгами - это не проблема, а незапланированные расходы.
Настоящие проблемы деньгами не решаются. Деньги, увы, не всесильны. Особенно когда речь идет о твоей неполноценности - а именно так воспринимают люди отсутствие тени у Петера.
Несмотря на богатство, юноша становится изгоем и, изнывая от тоски и проклиная собственную глупость, ожидает возвращения Человека В Сером, с которым они договорились встретиться ровно через год после сделки. Как вы наверняка догадываетесь, на этой встрече он получит новое предложение - долговязый случайный знакомый с неприятным лицом согласен вернуть тень - но...
В обмен на душу.
Сразу скажу, что сказка получилась очень жесткой, потому что была очень честной. Петера предадут близкие люди, от него уйдет женщина, которую он полюбил, причем уйдет к его злейшему врагу.
Но он все-таки найдет выход, пусть и заплатив за свою наивную глупость очень высокую цену.
Повесть Шамиссо стала настоящим бестселлером своего времени. Она практически сразу была переведена на все европейские языки (в том числе и на русский),
А в германоязычных странах ее читали практически все и спорили о ней до хрипоты.
Ганс-Христиан Андерсен, буквально заболевший этой историей, и в итоге все-таки переписавший ее на свой лад, даже вставил в свою сказку "Тень" отсылку к Шамиссо: "И ученый рассердился не столько потому, что тень ушла от него, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине. Вернись он теперь домой и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим…"
Как вы понимаете, мы уже добрались до второго звена в цепочке - сказки Ганса-Христиана Андерсена "Тень".
Некий молодой Ученый, отдыхая где-то на юге, заметил на балконе дома напротив прекрасную девушку. Увы, но до балкона на той стороне улицы дотягивалась только тень Ученого - вот он сдуру и попросил ее посмотреть, что же творится в том доме?
А тень-то вдруг оторвалась от его ног и юркнула в балконную дверь. И назад не вернулась.
Хорошо, что дело происходило на юге, а на юге все быстро растет. Вот и у ученого выросла новая тень, большая-пребольшая, лучше прежней.
Но через несколько лет к нему пришел богато одетый господин и признался, что он и есть его бывшая тень - обжившаяся среди людей и даже преуспевшая в жизни.
На правах старого приятеля, жившего рядом с рождения, Тень предложил возобновить знакомство, и Ученый не нашел причин отказать.
Тем самым сделав первый шаг на пути к трагическому финалу...
Сказки Андерсена в принципе не блещут здоровым оптимизмом и румяным человеколюбием. Но "Тень" - пожалуй, самая мрачная из его сказок.
Там обязательный для сказок хэппи-энд, демонически хохоча, выбросили в форточку на мороз, предварительно приложив его пару раз об угол массивного стола - для гарантии. А трагический финал не оставляет сомнений - этот мир гадок и очень-очень-очень плох.
В особенности - для хорошего человека.
Но при этом "Тень" - одна из самых мудрых его сказок.
Вернее сказать - трудно оспариваемых.
Ведь если не врать себе, то носатый датчанин-мизантроп всего лишь напоминает истины, очевидные любому человеку, повидавшему жизнь во всем ее разнообразии.
Андерсен говорит о том, что стать человеком в глазах других людей довольно легко - обычно для этого хватает приличного костюма, элементарной вежливости и умения связать пару слов.
Нетрудно добиться и признания в обществе - для этого достаточно иметь деньги и быть не сильно жадным.
Заработать деньги тоже не бином Ньютона - их всегда можно либо забрать, либо выманить у других людей. Лох не мамонт, лох не вымрет.
Можно даже добиться высшей власти — были бы податливы хорошие, но простодушные люди.
А главное - мрачный сказочник напоминает, что путь вверх начинается с маленького преодоления, а путь вниз - с маленькой уступки.
И к статусу той самой овцы, которую сначала будут стричь, а потом забьют на мясо, тебя подведут - подведут умело, неспешно, но жестко. По шажочку, по ступенечке - но с каждой уступкой твой статус будет падать, а степень зависимости - расти.
И финальные строчки сказки звучат приговором этому миру. Приговором, который не только не получилось оспорить, но который уже даже привели в исполнение:
"Вечером весь город был иллюминирован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба! И принцесса с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «ура».
Ученый не слыхал этого ликования – с ним уже покончили".
"Страшная получилась сказка" - так, если не путаю, звучит реплика в одной из пьес Шварца.
Наверное, именно эта беспросветность и безнадежность андерсеновской "Тени" не давала покоя доброму сказочнику Евгению Шварцу.
Не случайно эпиграфом к собственной пьесе "Тень" Шварц поставил цитату из 8 главы мемуаров Андерсена "Сказка моей жизни". Эпиграф звучит так: "…Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет".
Это и про Андерсена, начитавшегося Шамиссо, и про Шварца, не желающего соглашаться с Андерсеном.
Пьеса Евгения Шварца "Тень" была закончена и впервые поставлена в Ленинградском театре комедии накануне войны, в 1940 году.
Но сегодня ее помнят почти исключительно по двум экранизациям.
Одноименной постановке Надежды Кошеверовой 1971 года, где роли Тени и Ученого сыграл Олег Даль.
И снятому ровно через 20 лет после первой экранизации фильму Михаила Казакова "Тень, или Может быть, всё обойдётся", где этих двух персонажей исполнил Константин Райкин.
Но "сравнительное жизнеописание экранизаций" будет уже в следующей главе.
_________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741