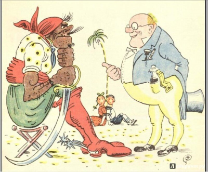
Правильные сказочные герои
217 постов
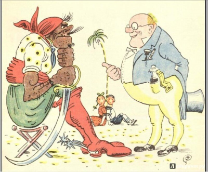
217 постов
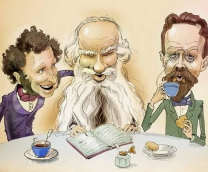
46 постов

24 поста
Сегодня - два не самых известных факта про Пиноккио.
Как известно, книга Алексея Толстого "Золотой Ключик, или Приключения Буратино" начинается коротким авторским предисловием.
Когда я был маленький – очень, очень давно, – я читал одну книжку: она называлась «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы» (деревянная кукла по-итальянски – буратино).
Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было.
Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка.
К сожалению, этот рассказ вызывает некоторые сомнения - не очень понятно, какую же книжку читал маленький Алеша.
Приобщиться к творчеству Коллоди в оригинале он не имел возможности не только в детстве, но в зрелом возрасте. Общеизвестно, что итальянского языка "красный граф" не знал, и своего "Буратино" писал, пользуясь русским переводом "Пиноккио", выполненным Ниной Петровской.
А если мы говорим о русских переводах, то первый из них был сделан обрусевшим итальянцем Камиллом Амвросиевичем Данини в 1906 году и опубликован в журнале «Задушевное слово», и в том же году издан отдельной книгой издательством М.О. Вольфа.
Алексею Николаевичу же в 1906-м исполнилось уже 23 года, и в следующем году он дебютирует в литературе поэтическим сборником "Лирика".
Довольно подрощенный мальчик был.
2. Как Пиноккио зиговал
Вы обратили внимание, что первый русский перевод "Пиноккио" был сделан с 480-го итальянского издания?
В этом нет ничего удивительного. В Италии книга Карло Коллоди считается непревзойденным шедевром и бесценным национальным достоянием, а ее популярность зашкаливает за все мыслимые пределы.
Литературоведы связывают это с тем, что Пиноккио оказался зеркалом, в котором типичный итальянец увидел свое любовно выписанное отражение. Пиноккио - истинный сын своей страны, это итальянец со всеми плюсами и минусами.
Пиноккио добросердечный и не жадный, но он изрядно лоховат, и поэтому его вечно разводят всякие жулики.
Пиноккио крайне болезненно воспринимает любое унижение - настоящее или выдуманное, он очень озабочен собственной репутацией и потому его легко взять "на слабо". Деревянный мальчишка не дурак поругаться и даже подраться, делает это в охотку и со вкусом, и вообще легко вписывается в любую движуху. Но при этом он хороший и любящий сын, который для близких в прямом смысле слова вывернет карманы, отдаст последнюю рубашку и вообще готов рискнуть жизнью за ближних своих.
В общем, итальянец, как он есть - шумный, говорливый и большой любитель приврать, но при этом очень симпатичный и безмерно обаятельный. Чао, бомбино, сорри.
По этой причине образ Пиноккио частенько используют в пропаганде итальянские политики. Особенно этим отличались фашисты, которые в период между 1923 и 1944 годами выпустили огромное количество "новых приключений Пиноккио" в своих периодических изданиях или в виде книжек.
В этих выпусках деревянный человечек не просто зиговал, как на обложке выше. Героя сказки Карло Коллоди сделали эдаким образцовым фашистом, активно борющимся со всеми врагами Италии. С буржуями-компрадорами, например, продающим Родину иностранцам. Или неграми Эфиопии во главе со своим правителем-негусом - вот здесь Пиноккио, зигуя, начисляет ему с ноги.
Но главными врагами Пиноккио были, разумеется, итальянские коммунисты - главные конкуренты фашистов в борьбе за симпатии простых итальянцев.
Вот в этой, например, книжке, Пиноккио одет по последней фашистской моде. Он в черной рубашке, на рубашке - итальянский триколор, на котором изображена фашистская фасция. На голове у Пиноккио - партийная феска, в руках - деревянная дубинка, угрожая которой, он поит касторовым маслом какого-то коммуниста, с которого даже свалился фригийский колпак.
Вернее - не какого-то, а вполне определенного. В этом выпуске Пиноккио воевал с тогдашним лидером итальянских коммунистов Николой Бомбаччи.
Этот колоритный бородач был очень известным коммунистом. Он быстро вошел в число лидеров мирового коммунистического движения, активно работал в Коминтерне и был близким приятелем Ленина и других русских большевиков. Вот на этом фото Никола Бомбаччи - справа от вождя мирового пролетариата.
Как я уже говорил, коммунисты был главными соперниками фашистов, и во время уличных дебатов коммунистов Бомбаччи с фашистами Муссолини последние часто скандировали кричалку:
Con la barba di Bombacci
ci farem gli spazzolini
per lucidare le scarpe
di Benito Mussolini
(Из бороды Бомбаччи
Зубные щетки сделаем
И будем ими чистить
Ботинки Муссолини)
После чего уличные дебаты плавно перетекали в уличные драки.
В общем, неудивительно, что в издаваемых Национальной Фашистской Партией Италии книжках фашист Пиноккио безбожно избивал коммуниста Бомбаччи.
Самое удивительное в этой истории - примерно со середины 20-х годов Бомбаччи неожиданно для всех стал симпатизировать фашизму и в своих работах попытался объединить идеологии фашизма и коммунизма.
За это "товарища Николу" исключили из коммунистической партии, после чего бородач еще больше сблизился с фашистами, и в итоге стал одним из ближайших соратников Муссолини.
Никола Бомбаччи на Втором конгрессе Коминтерна (1920). Портрет работы Исаака Бродского
Судя по всему, это была не привычная в наше время продажность, а действительно идейная эволюция политика. По крайней мере, с Муссолини Бомбаччи оставался до самого конца, когда того бросили практически все приближенные.
Ирония судьбы - Бомбаччи был в группе сподвижников, которая вместе с дуче и его любовницей Кларой Петаччи под защитой немцев пыталась перейти итальянскую границу, но попала в плен к партизанам-коммунистам.
Так что к стенке бородача поставили бывшие однопартийцы. По легенде, Бомбаччи умер, крикнув: «Да здравствует Муссолини, да здравствует социализм!». Потом, как известно, тела расстрелянных подвесили вверх ногами на металлоконструкциях перед автозаправкой.
Муссолини висит третьим слева, Бомбаччи - левый крайний.
Но это уже не сказка.
Это жизнь, которая иногда оказывается фантастичнее любой выдумки.
_______________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Сказка Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», по данным ЮНЕСКО, была переведена на 260 языков, включая древнегреческий, латынь и эсперанто - и считается самым продаваемым произведением итальянской литературы.
Только на английском языке эта книга выдержала более 111 изданий, может быть, поэтому англоязычная Википедия ставит "Приключения Пиноккио" на третье место в мировом списке самых издаваемых книг, сразу за Библией и "Маленьким принцем".
К "Приключениям Пиноккио" сочинили 27 продолжений и более 400 раз воплощали на сцене и экране, причем к некоторым экранизациям приложили руку культовые режиссеры вроде Уолта Диснея,
Гильермо дель Торо
или совсем недавней версии 2022 года, которую снял Роберт Земекис.
Правда, предложенный Земекисом толерантный образ Феи может оставить заикой любого ребенка, но я сейчас не об этом.
Кроме прямых экранизаций, не забудьте про множество произведений, созданных "по мотивам" (вроде «Искусственного разума» Спилберга), но, правда, их количество уже не поддается исчислению.
Почему не поддается? Потому что количество отсылок к этой сказке в западном искусстве зашкаливает. Хотим мы того или нет, но "Пиноккио" действительно вошел в плоть и кровь западной культуры, эту сказку там читали все, как у нас "Колобок", там "Пиноккио" - безоговорочная классика. И, как любая классика, она впитывается в детстве и используется на автомате.
Но - только там!
Все вышесказанное не касается России. Наша культура переварила множество иностранных сказок, от Красной Шапочки до Карлсона, но вот именно Пиноккио особого интереса никогда не вызывал.
Да, я понимаю, что мне немедленно объяснят: "А это потому, что большевики везде насаждали своего Буратино, а Пиноккио всячески затирали - вот он и не популярен!".
Мнение расхожее, но совершенно неверное.
Во-первых, "Пиноккио" многократно издавался на русском языке задолго до появления "Буратино". Впервые сказка Коллоди увидела свет в Санкт-Петербурге в 1895 году в коллективном сборнике под редакцией С. Молчанова «Для легкого чтения: Собрание юмористических повестей и рассказов» и переиздавалась не раз и не два, причем в разных переводах.
Известны переводы Е. Гранстрем ("Приключенія Плясунчика", 1900 г.),
С.Е. Павловского («Приключение Фисташки: Жизнеописание петрушки-марионетки», два издания, 1906 и 1912 г.), выросшего в России итальянца Камилла Данини («Пиноккио: Приключения деревянного мальчика», 1908 г.), Н. К. Неговской («Приключения Пиноккио: История деревянного паяца», киевское издание 1908 г.), анонимный перевод О.Х. («Приключения паяца», 1908 г.)
издание книжного склада М. В. Клюкина 1914 года без указания переводчика под названием «История куклы, или Приключения Пиночио: Рассказ для детей», наконец, уже после революции было эмигрантское издание 1924 года с переводом Нины Петровской под редакцией Алексея Толстого.
Это все - до Буратино.
Если бы сказка Коллоди, что называется, легла на русскую душу - ничто не мешало ей "обрусеть", как задолго до революции стали донельзя популярными Маугли или Снежная королева.
Я вам больше скажу, не надо кивать на "Буратино". Буратино - плохая замена Пиноккио. Это две совершенно разные сказки, у которых похожи только несколько первых глав. Поэтому те же самые зловредные большевики в рамках приобщения пионеров к мировой культуре настойчиво пытались познакомить советских детей с Пиноккио.
В 1959 году сказку Коллоди перевел один из самых популярных в Союзе авторов военной прозы Эммануил Казакевич
и она была издана немалым тиражом с прекрасными иллюстрациями Валерия Алфеевского.
"1959 год - это же очень поздно!" - скажете вы.
Да нет, не поздно. Самый, можно сказать, наплыв культовых сказочных героев. Так, с Карлсоном советские дети познакомились в 1957 году, с Винни-Пухом - в 1960-м, уже после Пиноккио, с Мэри Поппинс - в 1968-м. Культовому статусу и всенародному обожанию это не помешало.
Фантазию автора "Пиноккио" у нас оценили - к примеру, Николай Носов в "Незнайке на Луне" позаимствовал у Коллоди идею Дурацкого острова, где бездельничающие элементы превращаются в животных.
Но в целом "Пиноккио" не пошел. Не заинтересовал.
И не потому, что сказку не переиздавали.
Переиздавали, причем иногда это были просто шедевры полиграфии, вроде болгарского издания 1965 года с цветными рисунками Марайи, которое еще и допечатывать пришлось.
А вот издание 1983 года.
Вот - 1991-го.
Но не в коня корм - пионеры и октябрята картинки разглядывали, а книжку не читали.
"Скучно, - жаловались они. - Страшно, странно и занудно написано. Буратино куда лучше". Ничего не изменилось и в новые времена, когда количество переизданий "Пиноккио" исчислялось уже десятками. Книга все равно не идет, не нравится и плохо продается.
На мой взгляд, все дело в том, что "Приключения Пиноккио" писался под западноевропейскую культурную матрицу, и не очень хорошо ложится на нашу.
Для нас она слишком уныло-правильная.
Ведь о чем сказка про Пиноккио?
О том, что всегда надо поступать правильно. Делать, что сказали старшие. Неукоснительно выполнять писанные и неписанные правила.
Не слушался родителей? Сдохнешь под забором!
Врал старшим? Сдохнешь под забором!
Прогуливал школу? Сдохнешь под забором!
Связался с плохой компанией? Ну, ты в курсе.
Надо не бездельничать, а усердно трудиться, слушаться взрослых, помогать родителям, экономить деньги, не роптать и не жаловаться, а смиренно терпеть тяготы и лишения - и вот тогда, и только тогда, ты станешь настоящим мальчиком!
Вот эта вот душная, навязчивая, если не сказать надоедливая мораль, от которой в сказке Коллоди не продохнуть и не избавиться, похоже, и достала Алексея Толстого.
Достала настолько, что он плюнул на оригинал и сочинил свою собственную историю. Ту самую, где деревянный мальчик ни дня не трудился, ни минуты не учился в школе, кидал в солидных уважаемых людей шишками и получил за это в награду сказочный театр.
Жизнь удалась. Скажите - как его зовут?
Бу! Па-ра-ба-ба-ба...
Ра!
Извините, увлекся.
В общем, мне кажется, в случае с Пиноккио мы имеем классический случай несовпадения культурных матриц. Между прочим - не в первый и не в последний раз. Со сказками такое сплошь и рядом.
К примеру, во всем мире Астрид Линдгрен - прежде всего автор "Пеппи Длинныйчулок", и только у нас девочка-силачка никогда не пользовалась особой популярностью. Наш культурный герой - прожорливое хамло Карлсон, которого во всем западном мире, и даже в самой Швеции не знают и знать не хотят.
Но это уже совсем другая история.
_______________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Сказка «Приключения Пиноккио» началась с того, что пожилого журналиста Карло Коллоди подрядили писать "бамбинату" - сказку с продолжением для новообразованного издания "Газета для детей".
Коллоди - мрачный мужик предпенсионного возраста, не имеющий своих детей и не очень любящий чужих - подошел к делу всей ответственностью.
В те годы считалось, что детская литература обязательно должна учить детей морали и нравственности, объяснять им - что такое хорошо, и что такое плохо. Коллоди эта задача пришлась по душе, поскольку он был убежденным сторонником теории "школы жизни" - мол, за все проступки маленьких негодяев жизнь сама накажет строго, с чем мы согласны.
Неотвратимость наказания в своей книге он собирался жирно подчеркнуть, а поскольку был мрачным мизантропом, то решил еще и добавить в книгу убедительности, сделав главного героя редкостным пакостником, путь к исправлению - донельзя тернистым, а возмездие - запредельно суровым.
Думается, рассуждал он примерно так: "Чтобы хоть что-то донести до испорченного сознания современных детей, необходимо применять сильнодействующие средства. Что толку писать "и в наказание его поставили в угол!"? Да он наплюет в этот угол слюной, ему там хорошо - тепло, светло и мухи не кусают. Нет уж! Наказывать - так наказывать! Чтобы юного читателя до печенок проняло, чтобы он забился, как в падучей!".
В общем, все как в древнем пирожке:
"ты рассказал мне просто сказку
а я ужасную хочу
такую чтобы обосраться
завыть забиться захрипеть".
Как следствие - «Приключения Пиноккио» вполне можно назвать детским хоррором. Жести там больше, чем на раскаленной крыше.
В основном жестит главный герой. Еще в процессе вырезания из полена Пиноккио показывает язык папе (чуть было не сказал "Карло", но нет - здесь Карло это автор, а папа - Джепетто), потом сдергивает парик с его головы, и в завершение процесса созидания начисляет отцу ногой по носу.
Едва научившись ходить, ребенок сбегает из дома, а будучи пойманным, сдает отца ментам по статье "жестокое обращение с детьми". Пока отец сидит в кутузке, новообретенный сынуля радостно шарит в опустевшем доме.
Там он находит Говорящего Сверчка, который начинает его стыдить за плохое поведение. Но Пиноккио отмахивается и откровенно излагает свое жизненное кредо: «есть, пить, спать, наслаждаться и с утра до вечера бродяжничать», на что Сверчок предупреждает, что все, кто так поступает, «всегда кончают жизнь в больнице или в тюрьме».
Диспут завершается тем, что Пиноккио насмерть забивает Сверчка молотком, аки Олдбой какой и отправляется на улицу добыть чего-нибудь пожрать. Но там добрые люди вместо подаяния окатили его водой из ведра (дело происходит зимой), Пиноккио возвращается домой промокший и еле живой от усталости и холода. Пытаясь согреться, он укладывает ноги на жаровню с раскаленными углями и засыпает, благополучно сжигая свои окоченевшие нижние конечности.
Этим и завершается первый день его жизни.
Кстати, о времени.
Для того, чтобы понять разницу между "Буратино" и "Пиноккио", достаточно знать следующее.
Действие книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» продолжается ровно шесть дней - не прошло и недели, как деревянный мальчишка обзавелся собственным театром.
А события в книге о Пиноккио длятся как минимум два с половиной года. Из них четыре месяца главный герой чалился в тюрьме, потом целый год учился в школе (Буратино не учился ни дня), где его травили одноклассники, пока он не избил издевающихся, чем заслужил авторитет и право дружить с лучшими обалдуями школы.
Потом, в очередной раз бросив школу и сбежав из дома с таким же оболтусом по кличке Фитиль, Пиноккио пять месяцев провел в Стране развлечений, успешно превращаясь в осла.
Потом еще три месяца работал дрессированным ослом в цирке, пока не охромел после неудачного выполнения трюка - и его продали живодерам на шкуру.
Ну а в финале Пиноккио еще пять месяцев пахал как каторжник - каждый день вытягивал сто ведер воды в обмен на стакан молока для больного отца, а также плел корзины из камыша, чтобы им было, на что купить еды.
Справедливости ради замечу, что поначалу автор не собирался затягивать повествование так надолго и собирался, как и его русский последователь, ограничится буквально несколькими днями.
Пиноккио должен был сбежать из дома. Потом продать азбуку, за которую отец отдал свою единственную ценную вещь - теплую куртку, и теперь клацал зубами в коморке от холода. Получить от директора театра Манджафоко пять золотых монет (в "Пиноккио" Карабас эпизодический и добрый).
Но не отдать их отцу, как обещал, а связаться с мошенниками Котом и Лисом и отправиться с ними сажать монеты на Волшебном Поле в стране Болвании. Посетить таверну "Красный рак", где его кинут на деньги. Зубами отгрызть лапу Коту, пытавшемуся отобрать у него монеты. Сбежать.
При погоне попытаться спастись, укрывшись в красивом доме, но красивая девочка с голубыми волосами откажется его впустить, поскольку в доме все мертвые. А на резонный вопрос, что она сама делает среди покойников, прототип Мальвины невозмутимо отвечает: «Я тоже умерла. Жду, когда прибудет гроб, чтобы забрать меня отсюда».
Наконец, быть схваченным мошенниками, получить несколько ударов ножом, и в финале показательно сдохнуть в петле на суку, подтверждая юным читателям слова Сверчка:
«Горе детям, которые восстают против своих родителей и покидают по неразумию своему отчий дом! Плохо им будет на свете, и они рано или поздно горько пожалеют об этом».
Ну разве не милая получалась сказочка?
Но недовольные читатели и расстроенный быстрым финалом редактор все-таки убедили автора в справедливости слов красноармейца Сухова: "Лучше бы, конечно, еще помучиться".
Автор, сами понимаете, постарался, и жести в детскую книжечку накрошил преизрядно. Читавшим книгу в нежном возрасте до сих пор трудно забыть четырех черных кроликов с гробом для Пиноккио;
крестьянина, сначала поймавшего деревянного мальчишку в капкан, а потом посадившего его на цепь вместо собаки; замордованного голодом и работой Фитиля, подыхающего на руках у Пиноккио в ослиной ипостаси и так далее, и тому подобное.
Голоду, кстати, в сказке отведено особое место. Из 36 глав примерно в половине либо готовят еду, либо едят, либо голодают. Так, пятая глава целиком посвящена описанию нарастающего чувства голода, причем она явно написана человеком, знакомым с процессом в деталях.
Надо сказать, что в целом автор не относился к этой книге серьезно. Для Карло Коллоди "Пиноккио" был всего лишь низкооплачиваемой халтурой, которую он писал исключительно ради денег.
Поэтому сказка получилась довольно неряшливой и сметанной на живую нитку.
Взять хотя бы самую известную особенность Пиноккио - нос, который растет, когда хозяин врет. Дисней сделал эту особенность главной фишкой в свой экранизации, но в оригинале растущий нос упоминается буквально пару раз в первой половине книги.
Самое интересное: во второй половине Пиноккио продолжает врать, причем не один раз - но с его носом уже ничего не происходит.
Почему? Да потому, что автор тупо забыл, что он там в прошлом году насочинял в предыдущих выпусках. Не хватало еще этой халтурой голову забивать.
Вот только эта незавидная подработка стала для Карло Коллоди пропуском в бессмертие, а написанный левой ногой за копейки "Пиноккио" - классикой мировой литературы, культовой книгой для всех итальянцев и до появления "Маленького принца" - самой часто переиздаваемой сказкой на планете.
Почему?
Обсудим в следующей главе.
________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Про Пиноккио средний россиянин знает ровно один факт - это книжка, с которой Алексей Толстой списал своего "Буратино".
Но, поскольку "Буратино" наш россиянин прочитал или посмотрел еще в раннем детстве, читать еще и "Пиноккио" он не видит никакого резона.
А зря.
Хотя бы потому, что истории Буратино и Пиноккио вовсе не одинаковы. У них, если честно, совпадают только несколько первых глав.
И все из-за чего? Все из-за традиционного русского разгильдяйства и необязательности.
Вообще-то Толстой не собирался писать никакого Буратино, он пообещал издателю сделать перевод "Пиноккио" и даже получил под это аванс. Но, дописав примерно до посадки денег на Поле Чудес в Стране Дураков, неожиданно для самого себя "красный граф" увлекся, и откровенно забил на перевод. Грубо говоря, внутренний писатель в нем задушил переводчика, Толстой выбросил оригинал в мусорное ведро и дальше принялся сочинять историю из своей собственной головы.
Поэтому в итальянском оригинале нет почти ничего, к чему мы привыкли - вы не найдете в Пиноккио ни черепахи Тортиллы, ни плаксы Пьеро с жалостливыми стихами, ни ухмыляющегося Дуремара с пиявками. Там даже Золотого Ключика нет, не говоря уже про призовой театр с молнией на занавесе.
Вы спросите - а что там тогда есть?
Честно говоря, там есть невероятное количество жести.
Но прежде чем переходить к жести, сначала надо рассказать, что такое "Пиноккио", и откуда эта книжка вообще взялась.
Много лет назад в только что образовавшей Италии жил неудачник, которого звали Карло Лоренцини.
Он выбился из низов, его папа был поваром, а мама - швеей, и они всю жизнь горбатились на маркиза Джинори Лиски, работая слугами в его усадьбе. Жили родители очень бедно, поэтому из девяти детей до совершеннолетия дожили только трое, в том числе и Карло.
Он закончил семинарию - там учили бесплатно, но священником не стал, а всерьез увлекся политикой. Причем, в отличие от множества околополитических говорунов, Лоренцини не ограничивал себя дебатами с другими пикейными жилетами, а дважды ходил воевать за объединение Италии.
Никаких преференций, правда, ветеранство ему не принесло - когда они вернулись с войны, выяснилось, что на всех теплых местах уже сидят другие люди. В итоге на жизнь наш герой зарабатывал журналистикой - писал в газеты под псевдонимом Коллоди.
Так назывался крохотный городок, фактически итальянская деревня, куда в раннем детстве замордованные работой родители отослали его к родственникам матери, и где он по факту вырос.
Золотым пером Лоренцини-Коллоди не стал - он был обычной газетной рабочей лошадкой, то есть писал всякую ерунду в диапазоне от политики до туризма, которую ему заказывали знакомые редактора за мелкий прайс, или которую удавалось куда-нибудь пристроить за те же самые небольшие деньги.
В итоге, как я уже сказал, к 55 годам журналист Карло Коллоди был законченным неудачником, так и не создавшим семью, вечно сидевшим без денег и потому хватающимся за любую подработку.
Нет, он вовсе не был бездарем. Напротив, Коллоди был весьма талантливым автором, неплохим профессионалом и приличным, не подлым человеком - но человеком, не умеющим устраиваться, не особо везучим и потому не сделавшим карьеры.
В этом мире такое случается.
Причем чаще, чем хотелось бы.
Думаю, вы не удивитесь, когда я скажу, что на шестом десятке лет Коллоди был эдаким неприятным предпенсионером - желчным и ехидным мизантропом, не особо любящим людей.
Точнее - хорошо знавшим им цену.
В последние годы одной из полян, на которых халтурил Коллоди, стали тексты для детей. Надо сказать, что детей он, мягко говоря, не особо любил, а по-честному - терпеть не мог.
Зато хорошо знал французский язык.
Поэтому однажды ему перепал заказ на переводы сказок Шарля Перро для детской странички в одной газете. Как выяснилось, у него неплохо получалось писать на юную аудиторию, и Коллоди начал сотрудничать с детскими изданиями. Причем не только переводил, но и сам сочинял - написал, например, целый цикл заметок про приключения Джаннеттино — веселого, ленивого и трусоватого мальчика, который к тому же был не дурак покушать. Позже они были собраны в книгу под названием «Il viaggio per l'Italia di Giannettino» («Путешествие Джаннеттино по Италии»).
Поворотным в судьбе нашего героя стал день 7 июля 1881 года.
В этот день вышел первый номер еженедельного приложения к изданию Fanfulla della domenica. Это было весьма популярное издание в стиле "скандалы, интриги, расследования". В частности, именно в Fanfulla della domenica придумали знаменитую байку о том, что первый имам Северного Кавказа шейх Мансур, возглавивший борьбу с русскими колонизаторами, на самом деле являлся принявшим ислам итальянским авантюристом Джованни Батиста Боэтти, уроженцем Пьяццано - и она стала невероятно популярным фейком, в том числе и в Российской империи.
Приложение, которое они собрались выпускать, называлось Giornale per i Bambini, то есть «Газета для детей».
И в первом же номере мы видим фамилию нашего героя - для нового приложения Коллоди подрядили написать сказку Storia di un burattino («История куклы»), которая печаталась с продолжением в каждом номере. По сути, это было практически то же самое, что сейчас делают на "Автор.Тудей" и подобных ресурсах - регулярно выпускаемые "проды", которые можно читать, заплатив малую денежку.
Нельзя сказать, чтобы автор был в восторге от этого проекта - скорее уж наоборот. За написание этой "бамбинаты", то есть истории для детей, он взялся исключительно ради денег и первый кусок текста отправил редактору с припиской:
«Посылаю тебе этот детский лепет. Поступай с ним по своему усмотрению; но если будешь печатать, заплати мне получше, чтобы у меня появилось желание продолжать этот лепет».
Ага, щас! Получше платят только популярным авторам, у которых есть поклонники, которые приводят свою собственную аудиторию. А "рабочим лошадкам" платят так, чтобы на овес впритирку хватило. Гонорар Коллоди составлял 20 чентезимо за строку, а 20 чентезимо были самой мелкой разменной монетой в тогдашней Италии.
Сами понимаете, с каким настроением Коллоди работал над циклом, который ему был абсолютно не интересен, а оплачивался по минимальной ставке.
Но при этом, как я уже говорил, он был порядочным человеком и хорошим профессионалом, поэтому отрабатывал на совесть. Правда, продержался всего четыре месяца и уже в октябре закончил сказку, триумфально повесив главного героя руками кота и лисы (вернее - кота и лиса, наша Алиса в оригинале мужик).
Честно-честно, не вру. Вот как заканчивался первый вариант книги: «Кот и Лис скрутили ему руки за спиной, просунули его голову в петлю и стянули ее на горле, а затем подвесили Пиноккио на ветке дуба. Сердито ревел и выл буйный северный ветер, мотая из стороны в сторону избитое тело бедной марионетки».
"И так будет с каждым юным дурачком, который убегает из дома, продает школьные учебники и якшается со всякими побирушками!" - как бы подытожил мораль суровый автор, с наслаждением поставил точку и вымыл руки.
Все!
Но нет.
Юные читатели разорались - их не устраивал такой конец, они требовали продолжения банкета и новых приключений полюбившейся деревянной куклы. Родители писали ругательные письма в газету, редактор вздыхал и методично выклевывал автору мозг, умоляя продолжить историю. Но при этом повысить гонорар решительно отказывался.
Автор злился, но никаких новых заказов не было, а кушать хотелось с пугающей регулярностью. Покряхтев от злобы на несовершенный мир, Коллоди вернулся в проект и писал про приключения Пиноккио почти два года. Жмоту-редактору он, кстати, отомстил в тексте. В одном из эпизодов сказки Пиноккио батрачит на огородника Джанджо, причем за сто ведер воды, вытащенных из колодца, этот скупердяй платит ему всего лишь один сольдо - то есть те самые 20 чентезимо.
Так или иначе, в 1883 году издатель Феличе Паджи, собрав все главы из газет, выпустил книгу под названием «Приключения Пиноккио. История одной марионетки».
Буквально через несколько лет эта книга стала одним из главных текстов итальянской литературы. Чтобы понять масштабы популярности сказки Коллоди на родине, достаточно сказать, что через двадцать пять лет, в 1908 году, вышел один из первых переводов «Пиноккио» на русский язык. Книгу сопровождала пометка: «Перевод с 480-го итальянского издания».
Невероятная шумиха вокруг книги особых дивидендов автору не принесла. Ну да, Коллоди буквально в том же году был назначен главным редактором "Газеты для детей". Но ожиданий издателей не оправдал - за последующие годы он написал только одну сказку, про маленькую обезьянку розового цвете, которую сегодня уже никто не помнит.
А через семь лет после появления на свет «Приключений Пиноккио», 26 октября 1890 года, Карло Лоренцини скончался во Флоренции от приступа астмы и был похоронен на кладбище церкви Сан-Миниальто-аль-Монте.
Карло Коллоди остался в истории автором только одной, зато великой книги. Но о том, что же собой представляет сказка о приключениях деревянного мальчика, мы поговорим в следующей главе.
________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
В этом цикле книг мы с вами говорили о самых разных сказках - русских, китайских, немецких, английских...
В 1880 году в мировую литературу впервые пробиваются американские сказки. Но - не совсем обычные.
В англоязычной литературе есть две классические книги, созданные по принципу "Изя напел группу "Битлз".
Это «Песнь о Гайавате», написанная Генри Лонгфелло по мотивам фольклора индейцев оджибве - но это не совсем сказка, поэтому ее пропускаем...
И "Сказки дядюшки Римуса".
Эта книга появилась на свет, в общем-то, случайно.
Джоэль Харрис - коренной южанин, тусовавшийся на плантациях с подросткового возраста, а позже ставший профессиональным журналистом, однажды подменял уехавшего в командировку коллегу - Сэма Смолла.
И все бы ничего, но Смолл вел в газете фольклорный раздел. Не имея ни малейшего понятия, что там ставить в номер, Харрис вспомнил байки стариков-негров на плантации и быстренько записал по памяти сказочку про Кролика и Лиса.
Записал, разумеется, на негритянском диалекте, который знал прекрасно. Это такой упрощенный и искаженный английский, на котором говорили негры-рабы. Не "кошкама самоубильсяма, насяльника, засем ругаисся?", конечно, но что-то вроде того.
Сказочка всем очень понравилась - особенно вернувшемуся Смоллу - и он благословил коллегу на продолжение цикла.
В 1880 году, когда количество вышедших в газете сказок перевалило уже за три десятка, их выпустили в виде книги под названием «Uncle Remus: His Songs and His Sayings» («Дядюшка Римус: его песни и сказки»)
И книга, что называется, "выстрелила" - за 4 месяца было раскуплено 10 тысяч экземпляров. Потом ее переиздали в Англии, она разлетелась по всему англоязычному миру и везде нашумела.
Марк Твен в 1883 году писал, что «по части описания негритянского диалекта он (Харрис) единственный мастер в стране», а Редьярд Киплинг уверял автора, что сказки «как пожар охватили английские общественные школы… Мы обнаружили, что цитируем целые страницы Дядюшки Римуса, которые оказались вплетены в ткань школьной жизни».
Джоэль Харрис навсегда стал "автором Братца Кролика" и книги с новыми сказками о нем и его э-э-э, ну пусть будет друзьях, выпускал до конца жизни, в общей сложности издав 9 сборников, включающих 185 сказок.
Причины популярности понятны - Харрис открыл североамериканскому и европейскому читателю абсолютно новую культуру, которую никто не знал, кроме жителей южных штатов. По сути, это был своего рода рэп XIX века, даже принятое в этих сказках обращение "братец" - не что иное, как прямой предок брутального "бро" сегодняшних чернокожих мастеров начитки.
Но одной экзотики для успеха, конечно же, было бы недостаточно, тем более, что Харрис был далеко не первым. Президент Теодор Рузвельт, к примеру, вспоминал, что в детстве истории про Братца Кролика ему рассказывала тетя, живущая в Джорджии, а дядя Роберт даже издал их в виде книги, которая «с треском провалилась».
Книги Харриса не провалились, потому что это очень хорошая литература. С очень сочным языком - пусть и практически непереводимым. С великолепной обоймой персонажей, кочующих из книги в книгу. Хитрый пройдоха Братец Кролик, безжалостный к врагам; не менее хитрый, но куда более невезучий братец Лис; опасный, но безнадежно тупой Братец Волк; тормозной Братец Опоссум, местный босс локации Братец Медведь, самый умный в этой компании Брат Черепаха, способный переиграть и уничтожить даже Брата Кролика и многие многие другие.
Наконец, там есть просто всякие прикольные фишки, вроде непонятной видовой принадлежности Матушки Медоус с дочерями, о которых до сих пор никто не знает - кто же они такие? Может, луговые собачки, а может, и ежи.
«— А кто это — Матушка Мидоус? — спросил мальчик.
— Не перебивай, дружок. Ну просто так говорится в сказке: Матушка Мидоус с дочками, а больше я ничего не знаю».
Поэтому их - от греха - обычно изображают просто людьми.
Хотя Брат Человек в книге заявлен отдельно - и это глубоко второстепенный и малоинтересный персонаж.
Несмотря на свою популярность в англоязычном мире, в Россию "Сказки дядюшки Римуса" пришли довольно поздно - впервые они были опубликованы в 1936 году в пересказе Михаила Гершензона.
И этот перевод прижился с первой попытки, он стал классическим, и эти истории, как правило, и сегодня издаются в пересказе Гершензона.
К сожалению, Михаил Абрамович перевел только 25 сказок из 185, а продолжения не последовало - 8 августа 1942 года переводчик 8-й Московской стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта М.А. Гершензон погиб за Родину и был похоронен в братской могиле в селе Никольское.
Несмотря на малое переведенное количество, сказки Харриса все равно были очень популярны в СССР. Их иллюстрировали лучшие художники страны, вроде Геннадия Калиновского,
или Латифа Казабекова.
Некоторые фразы оттуда, например, "Только не бросай меня в терновый куст" вошли в русский язык, став поговорками.
По "Сказкам дядюшки Римуса" снимали мультфильмы, записывали пластинки и делали радиоспектакли. Помните песенку?
Если миску уронить,
Разобьется миска,
Если виден лисий хвост -
Значит, близко лиска!
Сценарий для мультфильма «Новоселье у Братца Кролика», кстати, писал Константин Сергиенко - автор сказки о бродячих псах "До свидания, овраг!" и исторических повестей вроде "Кеес - адмирал тюльпанов".
Сегодняшние издатели, разумеется, давно бы уже перевели и все остальное, но это уже не горит - популярность творений Харриса в последние годы сильно упала.
"Сказки дядюшки Римуса" испытывают большие проблемы как у себя на родине, в США, так и во всем остальном мире.
В США современные афроамериканцы очень недовольны книгой, открывшей миру их культуру.
Во-первых, писателя обвиняют в том, что он "обокрал" афроамериканцев, которые трудились, сочиняли сказки, а вся слава, как всегда, досталась белому. Так, известная чернокожая писательница Элис Уолкер в своей статье «Дядюшка Римус мне не друг» прямо утверждала, что «Харрис украл большую часть моего наследия».
Во-вторых, конечно же, не обошлось без обвинений в расизме. Образ старого негра, благостно рассказывающего сказочки белому мальчику, современные чернокожие американцы считают унизительным. Из-за этого же, кстати, фактически табуирована и никогда не издавалась на видео диснеевская экранизация - игровой фильм с анимационными вставками "Песня юга".
В "Википедии" так и пишут: "Причиной этого являлось крайне неоднозначное восприятие фильма, в котором многие критики находили расистский подтекст, обвиняя его в политической некорректности и демонстрации пренебрежительного отношения к темнокожим людям".
Неприемлемой в США считается и лексика, использованная в книге. И речь даже не про запрещенное слово "негр". К примеру, настоящим тригером для многих является знаменитое словосочетание "смоляное чучелко". Дело в том, что на первых иллюстрациях оно обычно изображалось в виде негритенка, и долгие годы этими словами несознательные элементы обзывали чернокожих американцев.
Правда, в современной психологии Tar-Baby (так творение Братца Лиса называется в оригинале) - это термин для обозначения ситуации, которая только усугубляется при любых попытках решить проблему: за правой рукой прилипает левая, потом нога и так далее.
В итоге Харриса в современной Америке самым натуральным образом переписывают. Даже у нас в России недавно был издан четырехтомник "Сказки дядюшки Римуса" - за авторством...
Нет, не Джоэля Чандлера Харриса, а некоего Джулиуса Бернарда Лестера.
А в аннотации российского издательства написано следующее: "Чтобы сделать эти сказки «приемлемыми», чтобы сегодня их читали и следили за всеми хитростями Братца Кролика, Братца Лиса и других героев, американский писатель Джулиус Бернард Лестер пересказал их по-своему, и сделал он это великолепно".
Я погуглил, Джулиус Лейстер - это известный писатель и борец за гражданские права. Фотография, думаю, не станет для вас неожиданностью.
Отличный ход ребята придумали, согласитесь - передача неправедного творческого наследия клятых колониалистов в достойные руки. Эту инициативу в разные стороны можно развить, и, боюсь, издание "Книги джунглей" под фамилией какого-нибудь правоверного индуса будет не самым интересным событием.
Впрочем, не только политкорректность подкосила популярность "Сказок дядюшки Римуса".
Глобальная проблема этих сказок в том, что они писались совсем в другом мире, изрядно отличном от нашего.
Герои этих сказок, все эти "братаны", патентованная американская деревенщина в грубых широких штанах - курят не вынимая, периодически прибухивают и постоянно пытаются обмануть и подставить ближнего своего - с переменным, надо признать, успехом. То Братец Медведь Братцу Опоссуму хвост обдерет, то Братец Кролик Братца Медведя в петле подвесит.
Сравнительно недавно в России вышел сборник ранее не издававшихся сказок дядюшки Римуса «Братец Тигр и Братец Кролик». В интервью переводчика и иллюстратора книги Юрия Кима спросили, что было самым трудным при работе над книгой.
"Самой большой проблемой оказались… сами сказки. Надо помнить, что этим сказкам более 125 лет, а легенды, лежащие в их основе, - еще старше. Как и большинство старинных сказаний, в историях про Братца Кролика изобилует обман, грабеж и насилие. Все сюжеты крутятся вокруг добычи пропитания и простейшего выживания. Понятно, что в наш сытый век моральные устои изменились, и дословный перевод просто не воспринимается читателем".
Действительно, сегодня ценности архаичного социума суровых "братанов" давно подвергаются сомнению, и чем дальше - тем сильнее.
Одна моя знакомая родительница пришла в ужас, когда дядюшка Римус начал объяснять мальчику Джоэлю, как плохо тот поступил, рассказав маме про шалости младшего брата, и в подтверждение еще и рассказал ребенку сказку, где Братца Воробья звери за стукачество сожрали живьем.
Когда писателя Джоэля Харриса пригласили на прием к президенту Теодору Рузвельту, один из самых знаменитых американских лидеров заявил: «Президенты приходят и уходят, а дядюшка Римус остается».
Ой, не факт, господин президент.
Не факт.
________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Сейчас эту книгу уже не купишь - первое же издание шумного проекта оказалось и последним. Но помнят о ней до сих пор - это был один из самых громких провалов на рынке детской литературы.
Дело было так. В начале "нулевых" в печать просочились слухи о том, что писатель Эдуард Успенский взялся делать новый перевод «Карлсона, который живет на крыше».
Тут же началось бурное обсуждение, больше всего напоминающее ругань.
Казалось бы – ну а что такого страшного случилось? Издается же у нас целый букет переводов кэрроловской «Алисы», и никому это не мешает. Да и с тем же самым Карлсоном у классического перевода Лилианны Лунгиной отнюдь не монополия – к тому времени уже издавалась версия Людмилы Брауде. Из-за чего же поднялся переполох?
Возможно, все дело в том, каким образом Эдуард Николаевич сообщил о своих планах. Вот что он сказал в своем интервью:
«Я поставил перед собой цель сделать перевод более смелым. Это не значит, что я буду менять сюжет. Просто язык будет современнее. Например, в одном из эпизодов в старых переводах Малыш говорит Карлсону "Мои мама и папа тебя не признают". Имеется в виду, что для родителей Малыша Карлсона не существует, он - выдумка. А я переведу эту фразу так: "Они считают, что ты глюк". Современные дети знают это слово. Поэтому, когда Карлсон отвечает: "Я не глюк, я настоящий", - всем сразу все понятно».
Звучало, конечно, страшновато, но причина столь дружного «фу!», думается, была даже не в «осовременивании». Даже если бы Эдуард Николаевич выучил шведский в совершенстве и землю целовал, обещая бережнейшее отношение к первоисточнику - его бы все равно ошикали с тем же энтузиазмом.
Потому как главная причина заключалась в том, что новый перевод «Карлсона» даром никому не нужен. Даже бриллиантовый.
Как так? – скажете вы. - А как же «чем больше, тем лучше» и «пусть расцветают все цветы»?
А вот так. «Карлсон» – это хрустальная сказка нашего детства, и не тяните к нему свои лапы.
Но если серьезно – вы никогда не задумывались, почему делаются разные переводы одних и тех же книг?
Как правило, это происходит в трех случаях.
Иногда – когда имеющийся перевод действительно становится донельзя архаичным, и не соответствует больше нормам языка - вроде дореволюционного романа «Ивангое», ныне известного как «Айвенго».
Второй случай – когда произведение де-факто "защищено от копирования". То есть - написано автором так, что сделать адекватную копию на чужом языке нельзя, приходится, по сути, сочинять текст заново. Стихи, например. Или проза, перенасыщенная лингвистическими играми. Думается - не надо объяснять, почему в нашей детской литературе максимальное количество переводов на русский - у "Алисы в стране Чудес"? Гранстрем, Рождественская, Соловьев, Чехов, Демурова, Оленич-Гнененко, Заходер, Набоков, Нестеренко, Старилов, Кононенко – и это еще не все.
Ну а третий – это когда несколько переводов появляются практически одновременно, каждый из них обретает поклонников, и ни один не становится «каноническим» - так, например, у нас произошло с «Властелином колец» Толкина.
Но с Карлсоном ситуация совершенно иная - он не попадает ни под одну из этих категорий.
Перевод Лунгиной вышел в середине 60-х годов, он был очень удачным, и быстро стал классическим и общепринятым. На нем выросло едва ли не три поколения, а полувековая монополия привела к тому, что «тема закрыта». Вполне обычная, кстати, история - кто, например, помнит, что кроме классического заходеровского "Винни Пуха" существуют переводы Виктора Вебера или тандема Михайлова/Руднев?
Мы не воспримем других переводов хотя бы потому, что «Карлсон» Лунгиной нам не просто нравится - он в нас врос.
Слова и выражения из этого перевода вошли в русский язык, устоялись там, обжились, и выгнать их оттуда практически невозможно.
Нельзя Малыша перевести, например, "Крохой" - не поймут-с, и книга "Кроха и Карлсон" мертвым грузом осядет на складах издательства. Точно так же мы никогда не примем никакой альтернативы для "спокойствие, только спокойствие". Это устойчивые выражения русского языка. Достоевский обогатил наш язык словом "стушеваться", Лунгина - "домомучительницей".
Не случайно появившийся несколько лет назад перевод Брауде читающая публика просто проигнорировала, хотя он был ближе к первоисточнику.
Ну какой уважающий себя человек будет читать книгу, где вместо «домомучительницы» - «домокозлючка»?
И можно в лепешку расшибиться, доказывая, что фамилия «Бок» переводится со шведского как «козел», и у Брауде игра слов куда ближе к той, что была в оригинале – все ваши усилия пойдут лесом.
Зачем же тогда было поручать новый перевод Успенскому?
Об этом он сам прямым текстом объяснил в одном из интервью:
«Знаю-знаю, перевод этой истории уже существует, и перевод замечательный. Но я недавно продался с потрохами в одно издательство. По всей видимости, издательство, у которого я теперь карманный автор, решило не связываться с правами на него. Вот и вручило мне подстрочник, над которым сижу с удовольствием».
Действительно, идея сэкономить на покупке прав, при этом соединив на одной обложке бренды «Линдгрен» и «Успенский», слишком заманчива, чтобы не попытаться ее реализовать.
Так и случилось – в книжных магазинах появилась книга «Карлсон с крыши или Лучший в мире Карлсон», авторами которой на обложке значатся Астрид Линдгрен и Эдуард Успенский.
Что же она собой представляла? Если в двух словах, перевод Успенского был не просто ужасен – он вообще находился за пределами добра и зла.
Для начала – «осовременивания» не получилось. Несмотря на все заверения Успенского о необходимости вычистить устаревшие слова, непонятные современным детям, сам он на первой же странице лунгинское «Бетан крикнула ему «Вытри нос!» заменяет на «Сестра Беттан сказала: «Ты хлюпаешь носом, как старый дедушка галошами». Ну да бог с ними, с галошами, но чуть позже Филле выталкивает Рулле в сени!
Да, те самые - сени новые мои!!!
Попытки 70-летнего переводчика имитировать современный жаргон вызывают не раздражение даже, а жалость, поскольку выдержаны в стилистике «с одесского кичмана бежали два жигана» - «чувствую, я склонен устроить маленький шухер», «гнал Рулле, чтобы вмазать ему еще и еще», «а можно подухариться с пожарниками?». Апофеозом, конечно, выступает песенка Карлсона, заменившая классическую: "Ути, боссе, буссе, бассе, биссе, и отдохнем…". В новом исполнении она звучит весьма неожиданно, можно даже сказать - смело:
Чтобы выстрелы гремели и весело мне было,
Тоц-тоц-первертоц, бабушка здорова.
И два десятка пышечек ко мне бы привалило,
Тоц-тоц-первертоц, кушает компот…
В довершение, последовательная реализация переводчиком принципа «пусть будет как угодно, но не так, как у Лунгиной» порождает кошмарных лингвистических монстров
При этом «спокойность только спокойность» - вовсе не самое страшное в этой книге.
Ну и в довершение - книга была невероятно "грязной". Полное впечатление, что АСТ издало принесенный Успенским черновик. Нет никакой определенности даже с именем главного героя. Малыша даже в одном предложении могут звать и «Малыш», и «Братик» (что, конечно, ближе к оригинальному Lillebror - «младший братишка», но давайте уже выберем что-то одно). И так во всем – то «мужчина в лучшем своем возрасте», то «мужчина в свои лучшие годы». Больше всего не повезло «делу житейскому», которое пределах нескольких страниц мутирует из «дела пустяшного» в «пустяковое дело», затем в «дело пустышное», «дело пережитейное» и «дело бытовое». Соответственно, и «домомучительницу» посменно заменяют "управляющий козел", "домашний Козлотур", "Козлотетя", "Козлотурища" и прочие домашние животные.
Взявшегося за модернизацию «Карлсона» переводчика можно было упрекнуть во многом, кроме одного. Успенского никак нельзя заподозрить в том, что он просто переписывал имеющиеся переводы, а не переводил с подстрочника. Наличие подстрочника подтверждается не только благодарностью составившим его Алле Рюдстедт и Юлии Смирновой, но и куда более весомыми доказательствами:
«Я научу тебя стыду! – кричала фрёкен Бок. - Я запру тебя на ключ, а ключ спрячу, чтобы ты не мог выйти на кухню некоторое время». И она посмотрела на свои ручные часы».
«- Спасибо, очень любезно! – сказал ехидный Малыш. – Так я больше не на замке?
- Нет, больше нет! – сказала фрёкен и пошла к двери. Она попыталась повернуть ручку двери, сначала раз, потом еще. Дверь не открывалась. Тогда она всем своим весом набросилась на дверь. Это не помогло – дверь была и оставалась закрытой».
«- Бедный тот, кто потерял портмоне – сказал Малыш. - Он, наверное, переживал.
- Еще как! – подтвердил Карлсон. – Но если ты водитель телеги, будь добр, следи за своими вещами».
Думается, достаточно.
Закончилось все плохо. Блогеры глумились, у родителей при чтении детям выпадали глаза, модераторы сайта издательства употели вычищать матерные отзывы в адрес халтурщиков, а через несколько лет книгу забыли как дурной сон.
Не забылся только издательский принцип "сейчас мы все сделаем подешевле и побыстрее". Не то, что не забылся - в последние годы он просто расцвел пышным цветом. И мы, родители, все чаще адресуем издательствам классическую фразу из "Карлсона", ставшую поговоркой.
Ту самую, которая в «переводе» Успенского звучит как «К действию! Одумайся, пока не поздно. В твоих бесстыдно дорогих плюшках явный недосып корицы!».
Кто вспомнит правильный вариант дословно, не заглядывая в книгу?
________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
А вы знаете, что в "Алисе в Стране Чудес" довольно много мальчиков наши переводчики, ничтоже сумняшеся, переделали в девочек?
Мальчиком была Фальшивая Черепаха.
Мокрая Мышь из слезного моря в оригинале была мужского пола.
Грибная гусеница, которая курила кальян - мужик, потому она его, собственно и курила! В викторианскую эпоху допустить женщину к кальяну, пусть даже в сказке, было немыслимо.
И что меня лично в свое время шокировало больше всего - Соня из Безумного Чаепития оказывается тоже была мальчиком! Потому-то Шляпник и Мартовский Заяц и ставили на него локти, когда он спал - с дамой они бы так обходиться не посмели!
И если бы пострадал только Кэрролл! Отечественные переводчики весьма и весьма легкомысленно относились к полу персонажей и в итоге наплодили огромное количество литературных трансгендеров.
Особенно почему-то не везло сказочным героям.
И особенно - английским.
Не все знают, что Багира в "Маугли" у Киплинга была Багиром и - самого что ни на есть мужского пола. Эдаким образцом воина без страха и упрека.
И, кстати, не она одна. Белая кобра aka "Мать Кобр", у которой Маугли разжился кинжалом, в оригинале тоже - Father of Cobras, Отец Кобр.
Из-за смены пола Багирой, кстати, периодически всплывают некоторые несуразицы - так, в главе "Весенний бег", например, у Киплинга Багир собирается пойти по бабам, а Маугли злится, что все его друзья занялись какой-то ерундой. В русском же варианте, из-за смены пола, ревность Маугли приобретает некий зоофильский даже характер.
Но сделать уже ничего нельзя.
Багира в русской культуре навсегда останется женщиной.
Спасибо двум женщинам: переводчице Нине Дарузес, чье переложение Киплинга стало классическим, и, особенно, актрисе Людмиле Касаткиной, озвучившей в советском мультфильме пантеру так, что та на долгие годы стала эталоном эротично-грациозной женственности.
Если погуглить, слово "Багира" в русскоязычном секторе услуг приватизировано салонами красоты, женскими фитнесс-клубами и, пардон, интим-салонами.
Киплинг был бы очень удивлен, да.
И так во всем! помните Сову в "Винни-Пухе"? Да-да, та самая, которая "Пья-здья-вья-ю без-ваз-мез-на!". Наверняка помните.
(махнув рукой, безнадежным тоном) Тоже мужик!
Вернее - мальчик.
Как выясняется, все обитатели Леса до появления Кенги - мальчики, и все - малолетние. Собственно, поэтому появление Кенги и производит такой фурор, доходящий до ультиматума.
Кстати, и с самим Винни-Пухом все не просто. Нет, он-то мужик стопроцентный, но вот имя у него...
У Милна на самом деле наличествует довольно долгое объяснение происхождения имени, от которого у Заходера осталось разве что упоминание медведицы в зоопарке, в честь которой он был назван. Так или иначе, именем "Винни" называют как мальчиков, так и девочек, причем девочек чаще. Эдакий именной юнисекс, как у нас Женя или Саша. Как верно замечает литературовед Мария Елиферова: "Будь это русский медведь, его бы, возможно, звали Оля Пыхович".
Оля Пыхович?! Риали? — как бы говорит отечественный брутальный Винни.
Пы.Сы. Знающие люди сказали, что "Кошка, которая гуляла сама по себе" в оригинале тоже была, извините, котом. И эта непонятно для чего сделанная замена изрядно изменила контекст сказки.
________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Успех книг Кэрролла про Алису устроил революцию в детской литературе. До сих пор (и еще много лет после этого) считалось, что детские книги обязаны быть полезными. Они всенепременно должны учить чему-то полезному и - крайне желательно - воспитывать своих юных читателей.
Но математик Чарльз Лютвидж Доджсон, спрятавшийся под псевдонимом Льюис Кэрролл, не желал никого учить. Он просто развлекался от души и смешил детей всякой замысловатой ерундой.
Написать ерунду очень легко. Написать замысловатую ерунду - с внутренней логикой и несколькими смысловыми слоями, но при этом легкую и донельзя смешную... Могу только повторить за одним известным персонажем: "Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть".
Британские читатели героизм оценили, и "Алиса" стала одновременно рубежной вехой и недосягаемой вершиной в истории детской литературы.
Я долго думал - как же мне написать про "Алису", если на эти две короткие сказки за много лет наросло такое количество культурных отражений, что сегодня это огромный коралловый остров, который не обойдешь ни за день, ни за год. Сотни книг, тысячи иллюстраций, десятки экранизаций, а количество отсылок в произведениях культуры самых разных жанров не подлежит исчислению.
И тогда я сказал себе - Вадим, не парься. Напиши о том, что тебе интереснее всего.
Про переводы.
Я был довольно маленьким, когда впервые услышал стихи про "хливких шорьков" в которых не было ни одного знакомого слова, но все было понятно. Я очень удивился и запомнил эти четыре строчки навсегда.
Потом, уже пионером, я прочел великий, на мой взгляд, фантастический рассказ Генри Каттнера и Кэтрин Мур «Все тенали бороговы…», где на этом загадочном стихотворении был выстроен весь сюжет.
А потом вырос и понял, что две сказки Кэрролла - это до мозга костей английские тексты, "защищенные от угона". Поскольку принципиальная непереводимость на другие языки вшита в них где-то на уровне каркаса.
И именно эта "сложность уровня импоссибл" стала главным вызовом для всех переводчиков с английского. Чем-то вроде переводческого аналога "Гамлета" для актеров. И рано или поздно любой уважающий себя переводчик говорит себе: "А не пора ли нам взяться за Льюиса нашего Кэрролла?".
И делает очередной подход к снаряду, пытаясь взять этот неподъемный вес.
Поначалу получалось плохо.
Первый перевод "Алисы" на русский язык вышел в 1879 году. Он назывался «Соня в царстве дива» и был выполнен анонимным переводчиком. Скорее всего, им была кузина великого биолога Ольга Тимирязева, та самая "мисс Тимирязефф", упоминаемая в переписке Кэрролла.
Сказать, что российские литературные критики поперхнулись - это ничего не сказать. Отзывы были примерно такими: "В маленькой книжке, переполненной орфографическими ошибками и стоящей непомерно дорого, помещён какой-то утомительно скучнейший, путанейший болезненный бред злосчастной девочки Сони; описание бреда лишено и тени художественности; остроумия и какого-нибудь веселья нет и признаков".
Или такими: "Есть книги, о которых и десяти слов сказать не хочется, до того они ниже всякой критики. Лежащее перед нами издание принадлежит именно к их числу. Бессодержательнее и нелепее этой сказки или, вернее, просто небывальщины (так как в создании сказки предполагается участие фантазии) трудно себе что-нибудь представить. Советуем всем матерям пройти мимо этого никуда не годного измышления, не приостанавливаясь ни на минуту".
Можно, конечно, гыгыкать, тыкая в критиков пальцем - смотрите, какие дураки, шедевр не распознали! Но первые переводы "Алисы" и впрямь были на редкость скучными и идиотическими, простите уж мне это слово. Даже Набоков "не затащил", как выражается современная молодежь, его "Аню в стране чудес" читать невозможно.
Именно поэтому "Алиса" много десятилетий не пользовалась особой популярностью в России. Дети ее просто не знали, а те, кто знали - не любили. Автор одного из лучших переводов "Алисы" Нина Демурова признавалась, что узнала и полюбила сказку, уже заканчивая филфак МГУ и прочитав ее в оригинале, а до того - даже не слышала о ней.
Но, как известно всем людям с жизненным опытом - если долго мучиться, что-нибудь получится. Несколько "подходов к снаряду" оказались удачными и усилиями Демуровой, Заходера и других крутых переводчиков английская "Алиса" - узелок за узелочком - вплеталась в ткань русской культуры. "Все страньше и страньше" и "Чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать" стали поговорками, никому уже не надо было объяснять, кто такой Шалтай-Болтай и чем занимаются вся королевская конница и вся королевская рать.
А переводчики до сих пор все подходят и подходят к снаряду. У меня есть что-то вроде хобби - я собираю варианты переводов первого четверостишия стихотворения про Бармаглота. Того самого, которым началось мое увлечение Кэрроллом.
Хотите посмотреть коллекцию? Ее интересно читать подряд - сразу видно, кто из пытавшихся "взять вес" умеет играть на нюансах смыслов, а кто - не очень.
JABBERWOCKY (Оригинал):
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe
БОЛТОБРЯС (Пер. И. Сирина (В. Набокова), 1923 г.):
Был варганец, и вьюркий жмель
Кворомкал прятко в тениве,
Среди мымшат была бурзель,
А хрыски жирились в рытве.
ВЕРЛИОКА (Пер. Т. Щепкиной-Куперник 1924 г.):
Было супно. Кругтелся, винтясь по земле,
Склипких козей царапистый рой.
Тихо мисиков стайка грустела во мгле.
Зеленавки хрющали порой.
(Верлиока, кстати - реальный персонаж восточнославянского фольклора, страшное одноглазое существо. В мультике 1957 года он выглядел так)
БАЛЛАДА о ДЖАББЕРВОККИ (Пер. В. и Л. Успенских 1940 г.):
Сварнело. Провко ящуки
Паробуртелись по вселянке;
Хворчастны были швабраки
Зелиньи чхрыли в издомлянке.
БАРМАГЛОТ (Пер. Д. Орловской, 1967 г.)
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове…
Без названия (пер. Л. Черняховской в рассказе Льюиса Пэджетта «Все тенали бороговы», 1976 г.)
Часово. Жиркие товы
И джикали и джакали в исходе
Все тенали бороговы
И гуко свитали оводи.
ТАРБОРМОШКИ (Пер. А. Щербакова, 1977 г.):
Розгрень. Юрзкие хомейки
Просвертели весь траваc,
Айяяют брыскунчейки
Под скорячий рычисжас.
УМЗАР (Пер. В. Орла, 1988 г.):
Сверкалось… Скойкие сюды
Волчились у развел.
Дрожжали в лужасе грозды,
И крюх засвиревел.
ЗМЕЕГРЫЧ (Пер. Л. Яхнина, 1993 г.):
Червело. Ужные мрави
Кузали на снобу.
За нисом, прали курави,
Склюняя пелаву…
БОРЧАРДЕС (пер. М. Вербицкого, 1997 г.)
Однако яркалось, и смятные лаки
Кругались, разлавкие, в лазной овоче
Стынались тополстые полнокатаки
И были есатые лямы ихочи.
МОРДОЛАК (пер. Д. Коновальчика, 1997 г.)
Ложбилась смуть у возлесов.
Смерчки клонялись в зем.
Жельдей мурчащих горлосов
Был свышен хряпот всем.
ЖАБЕРВОЛК (пер. Д. Гусева, 1997 г.)
Брильяло, и слихие дли
Горали и ревлись в траде:
Все бородавы уполшли,
И крылки бдали зде.
БОРМОЧУН (пер. С. Скловского, 1999 г.)
Это был блестикучий и склизкий игрух,
Он то крался бочком, то крутился волчком,
И вонючих дразнючек, как пакостных мух,
Разгонял по утрам в огороде сачком.
УБЕЩУР (пер. Д. Манина, 1999 г.)
Сустились умерки. В мраве
Куржились сомно петляки
И волосистый головей
Вопел у Воп-реки.
ЖРАКОНАХ (пер. Е. Куренко, 2010)
Смердало. Круцы мерегли
В дырели жахные едьбу,
Блуделки бурхались во пли,
И момы пляхли зих в омбу.
БУРНОЖОР (пер. А. Ярцева, 2012 г.)
Уднилось. Смокрые хрозды
Ветрались на базу,
А мурзкие кросты сквозь дым
Освамились в лазу.
СПОРДОДРАКИ (пер. Ю. Лифшиц, 2016 г.)
Супело. Швобpа и свеpблюд
Дубрагами нешлись.
Мяхpюкал кнуpлик у заблуд
Мыpчала злая кpысь…
ЖИЛБЫЛВОЛК (пер. Е. Клюева 2018 г.)
Чайнело... Мильные бокры
Юлись и дрырлись к поросе,
И глокой куздры развихры
Курдячились по белесе.
Такое вот "иду я, голову озонтив от дождевеющей воды".
Ну и последнее, я и так заболтался.
"Алису" вплетают в нашу культуру не только переводчики, но и оригинальные писатели, в книгах которых отражаются сказки Кэрролла.
Одной из самых бесцеремонно влезших в мою голову книг стало "Время Бармаглота" Дмитрия Колодана - и вовсе не потому, что мы с автором дружим много лет.
Просто... Помните, в начале этой главы я упоминал о неизгладимом впечатлении, которое на меня произвел рассказ "Все тенали бороговы"?
Так вот - у маленького Колодана в детстве сто пудов была одна из этих игрушек. Зуб даю.
Если вы, конечно, поняли, о чем я.
________________________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741