
Популяционная генетика послеледниковой Евразии.
2 поста
Экспериментирую с новыми форматами. Пилотный выпуск.
Палеогенетики выявили крупномасштабную миграцию на юг Великобритании в период от среднего до позднего бронзового века
Команда международных исследователей, благодаря полногеномным данным от 793 человек, 416 из которых было из Великобритании, выявила ранее неизвестную миграцию людей на юг Великобритании в период от среднего до позднего бронзового века, более чем за полтора тысячелетия до саксонского периода, возможно с территории Франции. Попутно решив задачку с увеличенным компонентом ранних европейских земледельцев у современных британцев, особенно в южной части Великобритании по сравнению с ранним бронзовым веком. Анализ примесей показал, что этот компонент увеличивался на в южной части Великобритании от раннего бронзового века до позднего с 31 до 36% и зафиксировался на 38% в железном веке, когда поток миграций сократился и Великобритания находились в относительной генетической изоляции от большей части континентальной Европы.
Что отражено в росте аллеля, обеспечивающего толерантность к лактозе до ~ 50% к тому времени по сравнению с ~ 7% в Центральной Европе, где его частота быстро возросла только тысячелетие спустя.
Это говорит о том, что молочные продукты использовались качественно по-разному в Великобритании и в Центральной Европе в течение этого периода.
А в целом эти вновь выявленные мигранты внесли около половины предков в жителей Англии и Уэльса железного века, тем самым поддерживая теорию, что кельтский язык распространился по южной части Британии из Франции в конце бронзового века. И возможно сосуществовал там с другими языками.
Самое большое генеалогическое древо, составленное по древней ДНК на сегодняшний день
Древо включает 27 членов семьи из пяти поколений, обнаруженных в могильнике Хазлтон Северный, возрастом около 5700 лет.
Где патрилинейность сыграла ключевую роль в определении того, кто был похоронен в гробнице, поскольку все 15 передач из поколения в поколение происходили по мужской линии. Отец-основатель семейства имел потомство от 4-х женщин. Потомки двух из этих женщин были похоронены в одной и той же половине гробницы на протяжении всех поколений. Это говорит о том, что материнские подлинии были сгруппированы в ветви, отличительность которых была признана во время их захоронения. Отсутствие взрослых дочерей предполагает их погребение в других местах, вероятно, рядом с мужьями. Интересно, что помимо рождённых от отца-основателя и его потомков, в этой же гробнице были захоронены и дети от других мужчин, что авторы работы интерпретируют как факт усыновления. Помимо этого, 8 человек не были близкими биологическими родственниками основной линии, что повышает вероятность того, что родство также охватывало социальные связи, независимые от биологического родства. При этом все проанализированные люди, за исключением одного, избегали близкородственных связей.
Размеры средневековых боевых коней
Команда учёных, в поисках крупных коней – дестриэ, исследовала останки 1964 лошадей из 171 археологического памятника по всей Великобритании, живших в период с 300 по 1650 гг. н. э. По факту это крупнейшая выборка.
Невзирая на экономическую и политическую роль лошадей того периода они были относительно небольших размеров. В среднем лошади саксонского и норманнского периодов (V-XII веков), оказались размером шотландского пони. Лошади саксонского периода среднем схожи с позднеримскими, при этом разнообразие лошадей было меньше чем позднеримский период и вновь восстанавливается только в период позднего средневековья.
А крупные аномальные образцы появляются только с нормандского периода 1066-1200 годы и далее.
Для норманнского периода максимальная высота в холке зафиксировано 150 сантиметров это для лошади из замка Троубридж графства Уилтшир. Её размеры уже соответствует размерам современными легким верховым лошадям. Кстати здесь стоит отметить, что шотландские пони были не такие уж и маленькие (рост верховых шотландских пони — 132-140 см).
А в период высокого средневековья 1200-1350 годы впервые появляются лошади выше 160 сантиметров. Но только в период постсредневековья (1500-1650 годы), средний рост лошадей становится больше. При этом в постсредневековый период увеличивается и разнообразие размеров лошадей, отмене 120 сантиметров, до, почти, 170 сантиметров. И наконец их рост приближается к росту современных тяжеловозов и полукровных пород лошадей. При этом авторы работы отмечают что дальнейший поиск крупных боевых рыцарских лошадей дестриэ, должен переместиться на домашние помойке и живодёрни.
Кем были шумерские "кунга"?
Ещё до появления домашних лошадей в Месопотамии в конце третьего тысячелетия до нашей эры, клинописные таблички и печати, свидетельствовали о преднамеренном разведении животных, похожих на лошадей и называемых горные лошади, а также "кунга", которые были в шесть раз дороже ослов. Упоминания об этих ценных непарнокопытных также можно найти в нескольких глиняных табличках, в которых подробно описываются расходы на корм, например, ячмень для непарнокопытных бога Шара, покровителя города Уммы и обожествленного царя Шульги из Ура.
Размер и скорость крупных самцов кунга, делали их более предпочтительными по сравнению с ослами для буксировки четырехколесных боевых повозок, которые предшествовали колесницам с лошадьми. Более мелкие животные использовались в сельском хозяйстве. Центром разведения кунга был город Нагар, современный сирийский Тель-Брак на севере древней Месопотамии, чьи правители также дарили кунга элите союзных территорий.
Именно эти животные, предположительно были изображены на королевских печатях по всему региону, а также на штандарте войны и мира из Ура на территории современного Ирака.
А после появления в регионе домашних лошадей, использование этих животных сократилось, и они в конечном итоге исчезли. Но кем были эти кунга? Морфометрический анализ непарнокопытных, обнаруженных в богатых погребениях раннего бронзового века в сирийском Умм-эль-Марра, не дал точных результатов.
И вот новый генетический анализ образцов, возрастом около 4,5 тыс. лет, показал, что это были самые ранние из известных межвидовых гидридов, в истории человечества, а именно смесь ныне вымерших, сирийских куланов с домашними ослицами.
И как предполагают авторы эти гибриды были бесплодными, поэтому не оставили следов, а в последствии были заменены лошадьми.
Новоассирийский кожаный доспех в Турфане
В 2013 году в могильнике Янхай, в 43 км к юго-востоку от современного Турфана, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, были обнаружены остатки кожаного чешуйчатого доспеха.
Эта находка вызвала ряд вопросов, о времени и месте создания доспехов. И вот недавно были опубликованы результаты радиоуглеродного датирования, с подробностями конструкции доспехов и сравнительным анализом находки с аналогами из разных регионов.
Доспехи, датируемые 786-543 годами до н. э., первоначально были изготовлены из примерно 5444 мелких чешуек и 140 крупных, которые вместе с кожаными шнурками и подкладкой весил около 4-5 кг, и мог надеваться без сторонней помощи.
Благодаря сравнительному анализу авторы предполагают, что доспех мог быть изготовлена в Новоассирийском царстве и не имеет аналогов в соседних с Турфаном регионах того времени. Хотя в данном случае сохранности способствовал засушливый климат.
При этом неясно как он попали в Синьцзян.
Однако если место производства доспеха определено верно, то это является одним из редких доказательств передачи технологий с запада на восток в 1 тысячелетии до нашей эры, когда усилились социальные и экономические преобразования.
Древние нубийцы конца 1-го тысячелетия н. э.
Относительно мало известно о генетическом ландшафте Нубии до исламских миграций, которые начались в конце 1-го тысячелетия нашей эры. В новой работе, в дополнение к 3-м ранеесеквенированным геномам, авторы представляют данные ДНК 66 человек с двух кладбищ в районе нильского острова Кулубнарти в Северном Судане христианского периода (~ 650-1000 гг. н.э.), с многочисленными свидетельствами социальной стратификации между двумя кладбищами.
У исследованных представителей нубийцев было около 43% предков, родственным нилотам, а оставшаяся родословная была из-за пределов Египта и была схожей с таковой в Леванте бронзового и железного веков. При этом генофонд Кулубнарти – сформировавшийся в течение как минимум тысячелетия, содержит непропорционально большое количество западноевразийских предков, связанных с Левантом по женской линии. По отдельным признакам исследователи определили, что на 2-х кладбищах хоронили людей разного достатка.
При этом авторы не нашли генетических различий между людьми, захороненных на обоих кладбищах, которые по археологическим и антропологическим данным можно разделить по достатку и уровню жизни. А стало быть в древнем нубийском обществе социальный статус не зависел от происхождения. А наличие захороненных родственников между кладбищами говорит о возможности перехода из одного социального слоя в другой.
Помимо этого, современные нубийцы не являются прямыми потомками нубийцев Кулубнарти, что свидетельствует о дополнительном генетическом вкладе со времен христианского периода.
Фарерские острова были заселены раньше, чем считалось
Фарерские острова, входящие в состав современного Королевства Дании, расположены в Северной Атлантике между Норвегией и Исландией.
В середине IX века н. э. они были заселены викингами, однако несколько косвенных свидетельств предполагали более ранние даты заселения Фарерских островов выходцами с Британских. В новой работе, авторы, используя озёрные отложения, фекальные биомаркеры и фрагменты осадочной древней ДНК овец, определили, что люди и домашний скот жили на Фарерских островах, примерно за 350 лет до прибытия туда викингов с территорий современной Норвегии, а именно около 500 г. н. э. Возможно это были кельты.
Но более точно кто это был, ещё предстоит установить.
Источники:
1. Patterson, N., Isakov, M., Booth, T. et al. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. Nature 601, 588–594 (2022). doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4
2. Fowler, C., Olalde, I., Cummings, V. et al. A high-resolution picture of kinship practices in an Early Neolithic tomb. Nature 601, 584–587 (2022). doi.org/10.1038/s41586-021-04241-4
3. Aleksander Chrószcz, Piotr Baranowski, Andrzej Janowski, Dominik Poradowski, Maciej Janeczek, Vedat Onar, Beata Sudoł, Przemysław Spychalski, Agnieszka Dudek, Waldemar Sienkiewicz, Albert Czerski, Withers height estimation in medieval horse samples from Poland: Comparing the internal cranial cavity‐based modified Wyrost and Kucharczyk method with existing methods, International Journal of Osteoarchaeology, doi.org/10.1002/oa.3073 (2021).
4. E. Andrew Bennett, Jill Weber, Wejden Bendhafer, Sophie Champlot, Joris Peters, Glenn M. Schwartz, Thierry Grange, Eva-Maria Geigl. The genetic identity of the earliest human-made hybrid animals, the kungas of Syro-Mesopotamia. Science Advances, 2022; 8 (2) DOI: doi.org/10.1126/sciadv.abm0218
5. Patrick Wertmann, Dongliang Xu, Irina Elkina, Regine Vogel, Ma'eryamu Yibulayinmu, Pavel E. Tarasov, Donald J. La Rocca, Mayke Wagner. No borders for innovations: A ca. 2700-year-old Assyrian-style leather scale armour in Northwest China. Quaternary International, 2021; DOI: doi.org/10.1016/j.quaint.2021.11.014
6. Sirak, K.A., Fernandes, D.M., Lipson, M. et al. Social stratification without genetic differentiation at the site of Kulubnarti in Christian Period Nubia. Nat Commun 12, 7283 (2021). doi.org/10.1038/s41467-021-27356-8
7. Curtin, L., D’Andrea, W.J., Balascio, N.L. et al. Sedimentary DNA and molecular evidence for early human occupation of the Faroe Islands. Commun Earth Environ 2, 253 (2021). doi.org/10.1038/s43247-021-00318-0
Так называемая алтайская гипотеза в узкой версии предполагает общее происхождение для тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, а в широкой версии к ним добавляют корейский и японский языки. Суммарно эти языки называют алтайскими или трансъевразийскими.
В целом большинство экспертов сходятся во мнении, что лексические сходства между ядерными алтайскими языками, а именно тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, слишком многочисленны, чтобы быть случайными, но предлагаемые исторические сценарии различаются. Одни ученые выступают за общее происхождение, а другие за доисторические контакты. Те же аргументы применимы к отношениям между корейским и японским языками, в то время как их гипотетические связи с тюркскими, монгольскими и тунгусскими языками менее очевидны и фактически поднимают вопрос о потенциальных случайных сходствах. Альтернативой может служить сложный, но более реалистичный гибридный сценарий, в котором первоначальные глубокие генеалогические отношения между тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, корейским и японским языками, позже могли быть размыты или скрыты контактами различной интенсивности и продолжительности между уже разделенными ветвями.
Недавние оценки показывают, что даже если многие общие элементы этих языков действительно обусловлены заимствованиями, тем не менее, существует множество надежных доказательств их общего происхождения.
Однако принятие этой классификации порождает новые вопросы о времени, месте, культурной самобытности и маршрутах расселения людей, говорящих на трансъевразийских языках.
В новой работе авторы оспаривают традиционную "скотоводческую гипотезу", которая связывает первичное распространение трансъевразийских языков с экспансией кочевников начавшейся в восточной степи 4 тыс. лет назад. Вместо этого они указывают на связь распространения трансъевразийских языков сообществами земледельцев. Поскольку эти проблемы выходят далеко за рамки лингвистики, для их решения авторы также используют археологические и генетические данные.
Лингвистика
Для решения лингвистических вопросов авторы собрали новый набор данных из 3193 родственных комбинаций, которые представляют 254 базовых словарных понятия для 98 трансъевразийских языков, включая диалекты и исторические разновидности.
Благодаря байесовскому подходу в филогенетике, был определён возраст для корня трансъевразийских языков в интервале межу 5595-12793 годами назад, со средним значением около 9181 года назад.
При этом ядерные алтайские языки, включающие тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские выделились в среднем около 6811 лет назад, с последующим отделением монгольских и тунгусо-маньчжурских около 4491 года назад. А время отделения корейской и японской линии определено около 5458 лет назад.
Эти даты оценивают временную глубину первоначального распада данной языковой семьи на более чем одну основополагающую подгруппу.
А что касается местоположения, то в отличие от ранее предложенных очагов, которые простираются от Алтайских гор до просторов Хуанхэ, от горного хребта Большой Хинган и до бассейна Амура, авторы работы находят подтверждение происхождения трансъевразийских языков в районе реки Силяохэ в раннем неолите. Это на территории современной провинции Внутренняя Монголия КНР.
После первичного распада семьи в неолите дальнейшее расселение произошло в позднем неолите и бронзовом веке. Носители протомонгольских языков распространились на северо-запад до Монгольского плато, прототюркский продвинулся дальше на запад по восточной степи, а другие ветви двинулись на восток: прототунгусо-маньчжурские в сторону рек Амура, Уссури и озера Ханки, протокорейский на Корейский полуостров, а протояпонский через Корею на Японские острова.
Благодаря качественному анализу, в ходе которого авторы изучили слова, связанные с земледелием и скотоводством, обнаруженные в реконструированном словаре праязыков, они дополнительно определили элементы, которые указывают на образ жизни носителей этих праязыков в конкретном регионе и в определённое время.
Прототрансевразийский, протоалтайский, прото-монголо-тунгусский и протояпонский с протокорейским языки, отражают небольшое ядро унаследованных слов, относящихся к выращиванию проса, но не риса или других культур, к обработке и хранению продуктов питания, к дикорастущим культурам, намекающим на оседлость, а также слов, относящихся к изготовлению текстиля и свиньям с собаками как к единственным домашним животным на тот момент.
А вот языки, отделившиеся в бронзовом веке, такие как тюркские, монгольские, тунгусские, корейские и японские, уже были дополнены новыми словами, которые отражают изменения в хозяйственной деятельности и относятся к выращиванию риса, пшеницы, ячменя; содержанию крупного рогатого скота, овец и лошадей; к инструментам для работы в поле и по дому, а также к производству шелка. При чём эти слова являются заимствованиями, возникшими в результате лингвистического взаимодействия между населением бронзового века, говорящем на различных трансъевразийских и нетрансъевразийских языках.
Таким образом, возраст, прародина, оригинальная лексика, связанная с земледелием и характер контактов между носителями трансъевразийских языков, подтверждают "земледельческую гипотезу" и исключают "скотоводческую".
Стоит отметить, что согласно предыдущим исследованиям, скотоводство на территорию древней Монголии было введено благодаря расширению на восток представителей афанасьевской культуры. И хотя большинство афанасьевских захоронений, о которых сообщается на сегодняшний день, находится в горах Алтая и в районах Верхнего Енисея, они также были обнаружены в Синьцзяне (3000-2600 гг. до н. э.) и южной части Хангайских гор в Центральной Монголии, с протеомными доказательствами потребления молока (3112–2917 гг. до н. э.). При этом афанасьевцы Центральной Монголии и Алтая генетически неотличимы.
Кстати, у современных жителей Внутренней Монголии обнаружен западноевразийский след, родственный древним кочевым степным скотоводам и в меньшей степени — иранским земледельцам.
Археология
Хотя Северо-Восточная Азия эпохи неолита характеризовалась широким распространением земледелия, выращивание зерновых культур распространилось из нескольких центров одомашнивания, наиболее важным из которых для трансъевразийцев был бассейн реки Силяохэ, где выращивание проса началось 9 тыс. лет назад. Авторы работы учли 172 археологические особенности для 255 памятников эпохи неолита и бронзового века, а также составили перечень 269 остатков ранних зерновых культур, датированных радиоуглеродным методом на севере Китая в Приморье, Корее и Японии.
255 памятников были сгруппированы по культурному сходству, среди них авторы выделили кластер неолитических культур в бассейне реки Силяохэ от которого отделяются две ветви, связанные с выращиванием проса: корейская ветвь периода керамики Чыльмун и ветвь неолитических культур, охватывающая Амур, Приморье и Ляодунский полуостров. Это подтверждает предыдущие выводы о распространении практики выращивания проса в Корею 5,5 тыс. лет назад и в Приморье через Амур 5 тыс. лет назад.
Новый анализ дополнительно объединяет памятники бронзового века в районе Силяохэ с памятниками периода керамики Мумун в Корее и памятниками Яёй в Японии, что отражает распространение риса и пшеницы в провинции Шаньдун и на Ляодунском полуострове. Эти зерновые культуры попали на Корейский полуостров в раннем бронзовом веке (3300-2800 лет назад), а оттуда в Японию около или менее 3000 лет назад.
Хотя перемещения населения не были связаны с какими-то однотипными археологическими культурами, распространение видов земледелия в Северо-Восточной Азии было связано с некоторыми характерными типами каменных орудий для выращивания и сбора урожая, а также с технологиями производства текстиля. При этом в отличие от Западной Евразии, где одомашненные животные и молочное скотоводство сыграли важную роль в распространении неолита, в Северо-Восточной Азии нет свидетельств одомашненных животных, за исключением свиней и собак, вплоть до бронзового века.
Связь между сельским хозяйством и миграцией населения особенно очевидна между Кореей и Западной Японией благодаря сходству керамики, каменных орудий труда, а также домашней и погребальной архитектуры.
Авторы работы, основываясь на предыдущих исследованиях, предоставляют обзор демографических изменений, связанных с внедрением выращивания проса в рассматриваемых регионах.
Вложив средства в сложные рисовые поля, земледельцы, выращивающие рис, как правило, вели оседлый образ жизни, а прирост населения конвертировали в дополнительную рабочую силу. А вот люди, выращивающие просо, расселялись интенсивнее. При этом плотность населения в эпоху неолита увеличивалась по всей Северо-Восточной Азии до демографического кризиса в позднем неолите. После которого в бронзовом веке наблюдался экспоненциальный рост населения в Китае, Корее и Японии.
Генетика
Для анализа генетической составляющей вопроса, авторы дополнили ранее опубликованные геномные данные из восточноевразийских степей, бассейна рек Силяохэ, Амура и Хуанхэ, а также Ляодунского полуострова, провинции Шаньдун, Приморья и Японии от 9500 д 300 лет назад, 19 новыми образцами из Кореи, района Амура, а также островов Кюсю и Рюкю.
На графике анализа главных компонент древние образцы спроецировали на 149 современных популяций Евразии и 45 Восточной Азии.
В моделях примесей (QpAdm) древние популяции из исследования представляют собой смесь пяти генетических компонентов, где Чжалайнор представляет популяции Амура; Яншао – обитателей бассейна Хуанхэ; Рокуцу – людей периода дзёмон; а культуры Хуншань и верхнего слоя Сяцзядяня на реке Силяохэ состоят из смеси различных восточноазиатских генетических компонентов из долин рек Хуанхэ и Амура.
Стоит отметить, что под популяциями Амура стоит понимать древних северовосточных азиатов как из пещеры Чёртовы ворота Приморья в неолите, так более универсально из других работ палеогенетиков.
Современные носители тунгусского, а также нивхского языков в Приамурье образуют плотный кластер. Неолитические охотники-собиратели Байкала, Приморья и юго-восточной степи, а также земледельцы из Силяохэ и Амура, попадают в рамки этого же кластера с небольшой долей древних северных евразийцев.
Земледельцы позднего неолита Анъанси демонстрируют высокую долю амурской родословной или древних северовосточных азиатов, в то время как неолитические земледельцы, выращивающие просо в долинах Силяохэ, демонстрируют постепенный сдвиг от этой родословной в сторону геномов реки Хуанхэ с течением времени.
Таким образом эта амурская родословная древних северовосточных азиатов может отражать предковый профиль охотников-собирателей Байкала, Амура, Приморья, юго-восточных степей и Силяохэ до неолита или даже верхнего палеолита. И этот компонент всё ещё присутствовал у ранних земледельцев этого региона.
Анализ главных компонент, как и в предыдущих работах, демонстрирует, что люди из неолитической Монголии имели высокую долю древних северовосточных азиатов или амурского компонента с обширным потоком генов из Западной Евразии, который увеличивался от бронзового века до средних веков.
Поскольку родословную древних северовосточных азиатов, связанную с Амуром, можно проследить до носителей японского и корейского языков, она, по-видимому, является исходным генетическим компонентом, общим для всех носителей трансъевразийских языков.
А анализ древних геномов из Кореи показал, что генетический компонент дзёмон неравномерно присутствовавший на полуострове 6 тыс. лет назад со временем исчезает, о чем свидетельствует незначительное его количество у современных корейцев. Отсутствие компонента дзёмон на Корейском полуострове в бронзовом веке указывает на то, что популяции связанные с современными корейцами, мигрировали в этот регион и заменили предыдущие популяции, параллельно внедрив технологии выращивания риса. Поэтому исследователи связывают распространение земледелия в Корее с различными волнами миграций из бассейнов Амура и Хуанхэ. Как культура хуншань для выращивания проса и культура верхнего слоя Сяцзядянь для добавления рисового земледелия в бронзовом веке.
Результаты также подтверждают массовую миграцию из Кореи в Японию в бронзовом веке, когда генофонд связанный с людьми периода дзёмон был заменён генофондом носителей культуры яёй.
Также в новой работе авторы впервые сообщают о древнем геноме с острова Мияко архипелага Рюкю, который показал, что древние жители архипелага происходят от представителей дзёмон с севера, вопреки предыдущим выводам о том, что древние его жители достигли южных островов Рюкю с Тайваня
Генетический переход от родословной дзёмон к яёй до периода Раннего Нового времени, отражает позднее появление сельского хозяйства и рюкюских языков в этом регионе.
Выводы
Благодаря сочетанию лингвистических, археологических и генетических данных, происхождение трансъевразийских языков можно проследить до неолита в Северо-Восточной Азии, когда люди с генофондом как у древних северовосточных азиатов начали выращивать просо.
Распространение этих языков состоит из двух основных фаз, отражающих распространение сельского хозяйства и генов.
Первая фаза, представляет собой первичный раскол трансъевразийских языков в раннем – среднем неолите, когда земледельцы, выращивающие просо, генетически связанные с древними северовосточными азиатами или с так называемой в этом исследовании – амурской родословной, распространились от реки Силяохэ до сопредельных регионов.
Вторая фаза, представлена языковыми контактами между пятью дочерними ветвями в позднем неолите, бронзовом и железном веках, когда земледельцы, выращивающие просо, со значительной долей древних северовосточных азиатов или амурской родословной, постепенно смешивались с популяциями из бассейна реки Хуанхэ, западной Евразии и носителями компонента культуры дземон. Благодаря этим контактам было внедрено рисоводство, западноевразийские культурные инновации и скотоводство. Начало выращивания проса в регионе реки Силяохэ примерно 9 тысяч лет назад может быть связано со значительной долей родословной, древних северовосточных азиатов, связанной с бассейном Амура, и совпадать во времени и пространстве с древними носителями трансъевразийских языков.
В соответствии с недавними ассоциациями между сино-тибетскими языками, возраст которых оценивается в 8 тыс. лет, и земледельцами эпохи неолита из верхнего и среднего течения реки Хуанхэ, новые результаты связывают два центра одомашнивания проса в Северо-Восточной Азии с происхождением двух основных языковых семей: сино-тибетской на реке Хуанхэ и трансъевразийской в бассейне реки Силяохэ.
Отсутствие доказательств влияния популяций реки Хуанхэ на язык и гены предков трансъевразийцев согласуется с наличием нескольких центров выращивания проса, что ранее было предложено в археоботанике.
Ранние этапы одомашнивания проса 9-7 тыс. лет назад сопровождались ростом численности населения, что привело к образованию экологически или социально изолированных подгрупп в бассейне реки Силяохэ и нарушению связи между носителями алтайских и японо-корейских языков.
Примерно между 5 и 6 тыс. лет назад некоторые из этих земледельцев начали мигрировать на восток, вокруг Желтого моря в Корею и на северо-восток в Приморье, принося в эти регионы тунгусо-маньчжурские и корейский языки, а из региона Силяохэ дополнительно ещё и амурский генофонд древних северовосточных азиатов в Приморье и их смесь с популяциями реки Хуанхэ в Корею.
Кстати новые генетические данные из Кореи примечательны тем, что они свидетельствуют о наличии предковых линий, связанных с популяциями дзёмон, и их смеси, за пределами Японии.
В позднем бронзовом веке наблюдался обширный культурный обмен по всей евразийской степи, что привело к смешению населения из региона Силяохэ и Восточной степи с западноевразийскими генетическими линиями.
Лингвистически это взаимодействие отражается в заимствовании агроживотноводческой лексики носителями протомонгольского и прототюркского языков, особенно в отношении выращивания пшеницы и ячменя, разведения скота, включая молочное скотоводство, а также содержания лошадей.
Около 3300 лет назад земледельцы из провинции Шаньдун и Ляодунского полуострова мигрировали на Корейский полуостров, после чего там помимо проса, начали выращивать рис, ячмень и пшеницу. Эта миграция связана с генетическим компонентом культуры верхнего слоя Сяцзядянь бронзового века и отражена в заимствованиях между японским и корейским языками. А 3 тыс. лет назад, эти инновации, связанные с сельским хозяйством, были переданы на остров Кюсю параллельно с заменой генофонда дзёмон таковым от носителей культуры яёй и лингвистическим переходом к японскому языку.
Новы результаты, также противоречат предыдущим предположениям о миграции австронезийского населения с Тайваня на остров Мияко архипелага Рюкю. Вместо этого так далеко на юг распространялась родословная связанная с дзёмон. При этом авторы отмечают, что наличие компонента дзёмон в Корее, не всегда совпадало с культурой.
Результаты работы подтверждают недавние выводы о том, что японские и корейские популяции происходят из бассейна реки Силяохэ.
И хотя предыдущие исследования определяли ареал возникновения трансъевразийских языков как выходящий за пределы участков пригодных для земледелия, новое исследование указывает на то, что гипотеза о связи земледелия и распространения языков всё ещё остается важной моделью для понимания закономерностей расселения популяций Евразии.
В сумме авторы работы делаю вывод о том, что распространение носителей трансъевразийских языков было обусловлено сельским хозяйством.
Источники:
1. Robbeets, M., Bouckaert, R., Conte, M. et al. Triangulation supports agricultural spread of the Transeurasian languages. Nature 599, 616–621 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04108-8
2. Permutation test applied to lexical reconstructions partially supports the Altaic linguistic macrofamily
Kassian Alexei S., Starostin George, Egorov Ilya M., Logunova Ekaterina S., Dybo Anna V. https://doi.org/10.1017/ehs.2021.28
Вспомогательные материалы:
Stevens, C.J., Shelach-Lavi, G., Zhang, H. et al. A model for the domestication of Panicum miliaceum (common, proso or broomcorn millet) in China. Veget Hist Archaeobot 30, 21–33 (2021). doi.org/10.1007/s00334-020-00804-z
Синьцзян-Уйгурский автономный район, географически расположенный в зоне слияния восточной и западной культур, в своё время был частью Великого шелкового пути, а также крупным перекрестком для трансъевразийского генетического и культурного обмена, включая также языки и сельскохозяйственные культуры.
Синьцзян, раскинувшийся по обе стороны Тянь-Шаньских гор, можно разделить на два субрегиона, называемых Северным Синьцзяном, в который попадает Джунгария, и Южным с Таримской впадиной и пустыней Такла-Макан. Хотя Таримский бассейн, на большей его части, непригоден для жизни, в нем также встречаются небольшие оазисы и речные потоки от тающих снежных шапок гор. В пределах и вокруг Джунгарского бассейна, скотоводы раннего бронзового века афанасьевской (3000-2600 гг. до н. э.) и чемурчекской (2500-1700 гг. до н. э.) культур, были правдоподобно связаны и со скотоводами афанасьевской культуры из Алтае-Саянского региона на юге Сибири (3150–2750 гг. до н. э.), которые, в свою очередь, были генетически тесно связаны с ямной культурой из Понтийско-Каспийской степи (3500–2500 гг. до н. э.), расположенной почти в 3000 км к западу.
Лингвисты выдвинули гипотезу о том, что миграции афанасьевцев принесли ныне вымершую тохарскую ветвь индоевропейской семьи языков на восток, отделив ее от других индоевропейских языков к третьему или четвертому тысячелетию до н. э. Однако, хотя родословная, связанная с представителями афанасьевской культуры, была обнаружена у популяций железного века Джунгарии (около 200-400 гг. до н. э.), а тохарский язык зафиксирован в буддийских текстах из Таримского бассейна, датируемых 500-1000 гг. н. э., мало что известно о более ранних популяциях Синьцзяна и их возможных генетических связях с афанасьевцами или другими группами.
Ещё в начале XX века европейские исследователи сообщили об открытии мумифицированных человеческих останков в Центральной Азии и с тех пор в Таримском бассейне было найдено и проанализировано множество других мумий, датируемых примерно 2000 годом до н. э. - 200 годом н. э. Находки привлекли международное внимание своим так называемым западным или европеоидным внешним обликом, войлочной и тканой шерстяной одеждой, а также своим агроживотноводческим хозяйством, которое включало крупный рогатый скот, овец, коз, пшеницу, ячмень, просо и даже сыр. На сегодняшний день мумии найдены по всему Таримскому бассейну, среди которых самыми ранними являются найденые в нижних слоях могильников: Гумугоу (2135-1939 гг. до н. э.), Сяохэ (1884-1736 гг. до н. э.) и Бэйфан (1785-1664 гг. до н. э.). Эти и другие связанные с ними памятники бронзового века сгруппированы в археологическом горизонте Сяохэ на основе их общей материальной культуры.
Ученые предложили несколько контрастирующих гипотез для объяснения происхождения и западных элементов внешности у жителей горизонта Сяохэ, включая степную гипотезу происхождения от людей из афанасьевской культуры, связанной с ямной, гипотезу происхождения от популяций, связанных с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом и гипотезу, основанную на теории островной биогеографии для Горного коридора Внутренней Азии.
Степная гипотеза утверждает, что популяции раннего бронзового века из Алтае-Саянского региона распространились в Таримский бассейн через Джунгарский и впоследствии основали агроживотноводческое хозяйство составляющее горизонт Сяохэ, около 2000 г. до н. э.
Бактрийская же гипотеза утверждает, что Таримский бассейн был первоначально заселён мигрирующими земледельцами связанными с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом около 2300-1800 гг. до н. э. из пустынных оазисов Афганистана, Туркменистана и Узбекистана через горы Центральной Азии. Поддержка этой гипотезы в значительной степени основана на сходстве сельскохозяйственных и ирригационных систем между этими регионами, которые отражают адаптацию к условиям пустынь, а также на доказательствах ритуального использования хвойника или эфедры.
Гипотеза островной биогеографии также, как и "бактрийская", связывает происхождение основателей горизонта Сяохэ с популяциями гор Центральной Азии, но в отличие от "бактрийской" она связана с отгонным животноводством в пределах Горного коридора Внутренней Азии к западу и северу от Таримского бассейна. Хотя в качестве альтернативы, через горный коридор, простирающийся от Гиндукуша до Алтая могли в основном перемещаться товары и идеи, а не популяции.
Недавние археогенетические исследования показали, что популяции афанасьевской культуры бронзового века Южной Сибири и Бактрийско-Маргианского археологического комплекса в Центральной Азии имеют различимые генетические профили, которые также отличаются и от более древних профилей охотников-собирателей Внутренней Азии.
Таким образом, дальнейшие генетические исследования населения Синьцзяна бронзового века имеют значительный потенциал для реконструкции истории населения Джунгарского и Таримского бассейнов.
В процессе новой работы исследователи получили генетические данные 5 человек раннего бронзового века из Джунгарии, ассоциированных с афанасьевской культурой (3000-2800 гг. до н. э.) и 13 человек из Таримского бассейна раннего-среднего бронзового века (2100-1700 гг. до н. э.), принадлежащих к горизонту Сяохэ.
Данные были дополнены анализом белков зубного камня 7 самых древних людей с участка Сяохэ.
Генетическое разнообразие популяций Синьцзяна бронзового века
На графике анализа главных компонент древние жители Синьцзяна образуют несколько отдельных кластеров на линии от современных европейских популяций к восточноазиатским, с некоторым отклонением в сторону древних северных евразийцев, наиболее известными представителями которых являются древние охотники-собиратели стоянок Мальта и Афонтова гора 3.
Жители раннего бронзового века из 2-х стоянок Джунгарии, Айитуохан и Сонгшугоу, ближе к Алтайским горам, на графике оказались близки к степным скотоводам афанасьевской культуры из Алтае-Саянского региона, что подтверждается и моделями примеси.
А обитатели стоянки Нилэкэ раннего бронзового века, расположенной ближе к горам Тянь-Шаня немного смещены в сторону более поздних жителей Таримского бассейна. При этом в отличие от Джунгарии раннего бронзового века, представители Таримского бассейна из могильников Сяохэ и Гумугоу раннего-среднего бронзового века, образуют плотный кластер, близкий к жителям центральной части евразийской степи и Сибири с повышенной долей предков древних северных евразийцев, как представители ботайской культуры на севере Казахстана, в отличие от современных казахов. А житель Таримского бассейн с более южного участка Бэйфан, смещён от Сяохэ в сторону людей раннего бронзового века Байкала.
Чтобы было проще понимать, компонент древних северных евразийцев, то это западноевразийский компонент который был широко распространён, включая обитателей Янской стоянки, возрастом около 32 тыс. лет, стоянки Мальта в Прибайкалье, возрастом 24 тыс. лет и Афонтовой горы у современного Красноярска, возрастом около 17 тыс. лет. Примерно 75% этого компонента было у восточноевропейских охотников-собирателей и около 36% у кавказских. У людей эпохи неолита Ирана было до 50% этого компонента, что отличает их от анатолийских земледельцев.
Примечательно, что скандинавские охотники-собиратели представляют собой смесь западных и восточных охотников-собирателей с вкладом древних северных евразийцев.
А в настоящее время этот компонент распространён у европейцев и коренных американцев, у последних наряду с восточноазиатским вкладом, разумеется.
Кстати в Европу эту родословную добавили представители либо ямной культуры, либо культуры генетически очень на неё похожей.
Генетическое наследие афанасьевской культуры в Джунгарии
Невзирая на значительные отличия между джунгарскими и таримскими группами, они всё же тесно генетически связаны. Но обе джунгарские группы ближе к различным западноевразийским популяциям и разделяют меньшее количество аллелей с группами, связанными с древними северными евразийцами. Их можно смоделировать как трехкомпонентную смесь, в основе которой от 50 до 70% предков, связанных с афанасьевской культурой (где 70% у образцов стоянок ближе к Алтайским горам, а 50% ближе к горам Тянь-Шаня) а также от 19 до 36% древних северных евразийцев или компонента, как и у более поздних людей из могильников Таримского бассейна - Гумугоу с Сяохэ.
И от 9 до 21% популяций Байкала раннего бронзового века. Кстати при добавлении в модели предковых компонентов людей из Горного коридора Внутренней Азии или связанных с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом, то они рушатся, указывая на то, что для моделирования западноевразийского компонента в Джунгарии достаточно афанасьевцев.
При этом несмотря на то что люди из могильников Гумугоу и Сяохэ жили на тысячелетие позже джунгарских групп, они генетически более далеки от афанасьевцев, что позволяет предположить, что у жителей восточной части Таримского бассейна, более высокая доля местных условно автохтонных предков, которые жили в регионе тысячелетия до прибытия других групп.
А люди чемурчекской культуры раннего бронзового века, которая сменила афанасьевскую как в Джунгарском бассейне, так и в горах Алтая, в моделях примерно две трети состоят из обитателей стоянок Айитуохан и Сонгшугоу раннего бронзового века Джунгарии, а остальная часть моделируется как смесь представителей участков Гумугоу и Сяохэ Таримского бассейна с людьми, связанными с Горным коридором Внутренней Азии или Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом.
В совокупности эти результаты показывают, что раннее расселение скотоводов афанасьевской культуры в Джунгарии сопровождалось значительным уровнем генетического смешения с местными условно автохтонными популяциями, что отличается от модели первоначального формирования этой культуры в Южной Сибири.
Генетическая изоляция популяции Таримского бассейна
Несмотря на 600 км пустыни между участками Гумугоу с Сяохэ на востоке Таримской впадины и могильником Бэйфан в самом сердце пустыни Такла-Макан, их обитатели представляют собой гомогенную/однородную популяцию, которая подверглась существенному сокращению численности, о чем свидетельствует высокая генетическая близость неродственных её представителей и низкое разнообразие гаплогрупп.
Жителей участков Гумугоу с Сяохэ раннего-среднего бронзового века можно смоделировать как смесь около 72% древних северных евразийцев как представительница Афонтовой горы 3 и около 28% древних жителей Байкала раннего бронзового века, как носители глазковской культуры, к примеру.
Которые сами представляют собой смесь компонентов древних жителей Северо-Восточной Азии и небольшой части древних северных евразийцев.
А образец могильника Бэйфан можно смоделировать как смесь жителей участков Гумугоу с Сяохэ около 89%, с вышеупомянутыми представителями Байкала раннего бронзового века, около 11%.
Для обеих таримских групп модели примесей не поддерживают добавление к ним людей из афанасьевской культуры и Горного коридора Внутренней Азии или Бактрии в качестве западноевразийского источника. Исследователи оценивают дату формирования их генофонда за 183 поколения или 9157 лет назад (± 986 лет), с учётом среднего времени на поколение в 29 лет. Кстати, из-за этого большой разброс - плюс/минус (±).
В совокупности результаты указывают на то, что самые ранние представители горизонта Сяохэ принадлежат к изолированному условно автохтонному генофонду, связанному с древними северными евразийцами Центральной Азии и Южной Сибири.
Молочное скотоводство в Таримском бассейне
Хотя суровые условия Таримского бассейна, возможно, служили географическим барьером для притока генов в регион, они не были препятствием для обмена идеями или технологиями, поскольку импортированные инновации, такие как молочное скотоводство, а также выращивание пшеницы и проса, легли в основу экономики этого региона в бронзовом веке.
Из верхних слоев кладбищ Сяохэ и Гумугоу, были извлечены шерстяные ткани, рога и кости крупного рогатого скота, овец и коз, навоз домашнего скота, остатки молока и кисломолочных продуктов, а также семена пшеницы, проса и пучки эфедры. Многие мумии, датируемые 1650-1450 годами до н. э., были даже похоронены с кусками сыра.
А для решения вопроса о том какой образ жизни вели самые ранние жители Сяохэ, исследователи проанализировали белки зубного камня 7 самых древних обитателей участка Сяохэ, датируемых примерно 2000-1700 годами до нашей эры.
Результаты подтвердили, что самые древние жители участка Сяохэ раннего-среднего бронзового века, употребляли в пищу молочные продукты. Во всех образцах были обнаружены белки, специфичные для молока крупного рогатого скота, овец и коз.
Но несмотря на это, и в отличие от предыдущих гипотез, ни один из проанализированных людей не имел производных мутаций, обеспечивающих стойкость к лактазе во взрослом возрасте. Поэтому Таримские мумии способствуют увеличению числа доказательств того, что доисторическое молочное скотоводство во Внутренней и Восточной Азии распространялось независимо от мутаций толерантности к лактозе.
Выводы
Хотя человеческую деятельность в Синьцзяне можно проследить более чем до 40 тыс. лет назад, как в пещере Тунтяньдун, самые ранние свидетельства постоянного проживания людей в Таримском бассейне датируются только концом третьего - началом второго тысячелетия до н. э. Где на участках Сяохэ, Гумугоу и Бэйфан хорошо сохранившиеся мумифицированные человеческие останки представляют собой самых ранних обитателей региона.
С момента их открытия в начале XX века и последующих крупномасштабных раскопок, начавшихся в 1990-х годах, таримские мумии были в центре дискуссий относительно их происхождения и связи с другими соседними группами, такими как носители афанасьевской культуры из степей бронзового века, жители оазисов из Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, а также представители чемурчекской культуры и обитатели Горного коридора Внутренней Азии. Помимо этого, интересовала и их связь с распространением индоевропейских языков в этом регионе.
Палеогенетические и протеомные данные, которые представлены в новой работе, указывают на совершенно иную и более сложную популяционную историю обитателей Таримского бассейна, чем предполагалось ранее.
Хотя через Горный коридор Внутренней Азии могли передаваться товары и идеи, он не был источником родословной для людей горизонта Сяохэ. Вместо этого таримские мумии принадлежат к географически изолированному, но широко распространённому в более древние времена западноевразийскому генофонду древних северных евразийцев, представительницей которых была жительница участка Афонтова гора 3, в районе современного Красноярска, возрастом около 17 тыс. лет. Примечательно, что у этой древней представительницы охотников и собирателей был обнаружен самый ранний на данный момент, производный аллель rs12821256, связанный со светлым цветом волос у европейцев.
Таким образом, более европейский внешний облик таримских мумий, вероятно, обусловлен их связью с генофондом древних северных евразийцев и изолированностью от смешения с соседними популяциями из-за экстремальных условий жизни в отличие от популяций раннего бронзового века Джунгарского бассейна, Горного коридора Внутренней Азии и чемурчекской культуры, которые взаимодействовали и смешивались с соседними популяциями, с которыми у них были культурные связи.
Однако несмотря на свою существенную генетическую изоляцию, население горизонта Сяохэ было культурно довольно разносторонним и объединяло в своей культуре инновации различного происхождения. Они делали сыр из молока жвачных животных, по технологии, возможно, перенятой у потомков афанасьевцев, а также выращивали пшеницу, ячмень и просо. Эти культуры первоначально были одомашнены на Ближнем Востоке и в Северном Китае и попали в Синьцзян не ранее 3500 г. до н. э., скорее всего по Горному коридору Внутренней Азии.
Таримцы использовали хвойник или эфедру в погребальном обряде, как и в оазисах Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, а также развили собственные отличительные культурные элементы, не встречающиеся среди других культур в Синьцзяне или где-либо еще. К ним относятся деревянные гробы в форме лодок, покрытые шкурами крупного рогатого скота и столбы из тополя разной формы. Вместо керамики предпочтение отдавалось плетёным корзинам, по форме напоминающим керамику афанасьевцев. Судя по находкам, можно сделать вывод, что обитатели горизонта Сяохэ, были хорошо осведомлены о технологиях и культурах за пределами Таримского бассейна, но развили свою уникальную культуру в ответ на экстремальные вызовы пустыни Такла-Макан с её оазисами, где даже пески не стоят на месте.
Это исследование подробно описывает происхождение популяций бронзового века в Джунгарском и Таримском бассейнах Синьцзяна. Примечательно, что новые результаты не подтверждают гипотезу о существенной миграции людей из степных или горных регионов в Таримский бассейн, чтобы объяснить происхождение людей, которые дошли до нас в виде таримских мумий. Вместо этого данные указывают на местную генетически изолированную популяцию с профилем древних северных евразийцев, который в более ранние времена был широко распространен.
Этот вывод согласуется с более ранними аргументами о том, что Горный коридор Внутренней Азии, в буквальном смысле был географическим коридором и вектором регионального культурного взаимодействия, которое связывало разрозненные группы населения с 4 по 2 тысячелетие до н. э. При этом новые данные ещё больше расширяют ареал распространения западно-евразийского компонента в древней Азии.
В то время как прибытие и смешение афанасьевских популяций в Джунгарском бассейне на севере Синьцзяна около 3000 г. до н. э., возможно, привело к появлению индоевропейских языков в регионе, материальная культура и генетический профиль таримских мумий примерно с 2100 г. до н. э. ставят под сомнение упрощенные предположения о связи между генетикой, культурой и языком и оставляют без ответа вопрос о том, говорили ли таримские популяции бронзового века на прототохарском языке.
Будущие археологические и палеогенетические исследования последующих популяций Таримского бассейна и, что немаловажно, тех периодов, где были найдены тохарские тексты первого тысячелетия н. э., могут способствовать получению ответов на эти вопросы и в целом пониманию более поздней истории населения Таримского бассейна.
Источник: Zhang, F., Ning, C., Scott, A. et al. The genomic origins of the Bronze Age Tarim Basin mummies. Nature 599, 256–261 (2021). doi.org/10.1038/s41586-021-04052-7
О том, какую роль сыграло одомашнивание лошадей в истории людей, пояснять излишне. Мобильность на большие расстояния, военные стратегии и кулинарные дополнения, вполне понятные преимущества. Однако где это произошло вызывает массу вопросов. Особенно если учесть, что современные одомашненные породы не происходят от самой ранней линии домашних лошадей, связанной с ботайской культурой на севере современного Казахстана, из контекста которой были получены самые ранние археологические свидетельства упряжи, доения и содержания лошадей в загонах, около 5,5 тыс. лет назад. Хотя и с отсутствием согласия между разными учёными по поводу доказательств их одомашнивания. Другие регионы-кандидаты на одомашнивание лошадей, такие как Пиренейский полуостров и Анатолия, также недавно были оспорены. Таким образом, генетическое, географическое и временное происхождение предков современных домашних лошадей осталось неизвестным.
В новой работе учёные из более чем 15 стран проанализировали останки лошадей со всех предполагаемых центров одомашнивания, включая Пиренейский полуостров, Анатолию, а также степи Западной Евразии и Средней Азии
В выборку вошли 264 вновь секвенированных древних генома и девять ранее опубликованных, возрастом примерно от 2 до 52 тыс. лет.
Результаты
Популяционная структура лошадей до одомашнивания
Метод присоединения соседей выявил четыре географически разделённых кластера с некоторыми нюансами как у анатолийских лошадей эпохи неолита, где соответствие дерева данным предполагало филогенетическое смещение.
⦁ Наиболее базальный первый кластер включает ленских лошадей (Equus lenensis) из Северо-Восточной Сибири живших с конца плейстоцена по конец IV тысячелетия до н. э.
⦁ Во второй кластер вошли лошади из Европы, включая образцы позднего плейстоцена из современной Румынии, Бельгии, Франции и Великобритании, а также из регионов от Испании до Скандинавии, Венгрии, Чехии и Польши с 6 по 3 тысячелетие до н. э.
⦁ Третий кластер включает самых ранних известных домашних лошадей из ботайской культуры и лошадей Пржевальского, которые были распространены на Алтае и Южном Урале с 5 по 3 тысячелетие до н. э.
⦁ И в 4 кластер вошли современные домашние лошади, а также древние, которые стали географически широко распространены примерно после 2200 года до н. э. и во 2 тысячелетии до н. э. (DOM2). Этот кластер генетически близок к лошадям, которые жили в степях Западной Евразии (WE), но не западнее румынского региона Нижний Дунай к югу от Карпат, до и в течение 3 тысячелетия до н. э.
При этом анализы показывают, что до 3000 г. до н. э. популяции лошадей очень сильно отличались в зависимости от географических барьеров на пути миграций.
В родословной лошадей из неолитической Анатолии и энеолитической Центральной Азии, в том числе у ботайских, увеличен генетический компонент (окрашенный в зеленый цвет), который также был значительным в Центральной и Восточной Европе в позднем плейстоцене (RONPC06_Rom_m34801) и четвертом или третьем тысячелетии до н. э. Однако он отсутствовал или был слабо представлен у лошадей в низовьях Дуная на территории Румынии, приднепровских степях (Ukr11_Ukr_m4185) и нижнем течении Волги и Дона в течение шестого-третьего тысячелетий до нашей эры.
Это указывает на возможное распространение анатолийских лошадей в Центральную и Восточную Европу, а также в Среднюю Азию, но не в степи Западной Евразии. А отсутствие типичного неолитического анатолийского происхождения исключает экспансию лошадей из Анатолии в Центральную Азию через Кавказ, но поддерживает их связь с лошадьми к югу от Каспийского моря примерно до 3500 года до н. э.
Происхождение современных домашних лошадей (DOM2)
Лошади из степей нижнего течения Волги и Дона были первыми, у кого преобладал компонент как у современных домашних лошадей, окрашенный в оранжевый цвет на графике. Эти лошади были из контекстов майкопской (Aygurskii), ямной (Repin – раннеямного (репинского) горизонта) и полтавкинской (Sosnovka) культур от 3500 по 2600 г. до н. э. При этом генетическая преемственность с домашними лошадьми (DOM2) была отвергнута почти для всех лошадей, предшествующих примерно 2200 г. до н. э., за исключением двух поздних образцов из Турганикского (TURG) поселения ямной культуры с 2900 по 2600 гг. до н. э., которое расположено дальше на северо-восток от низовья Волги и Дона.
Моделирование примесей исключило возможность вклада от анатолийских лошадей в предков современных домашних лошадей и подтвердило связь последних с их предками из нижнего течения Волги и Дона.
Типичный компонент родословной современных домашних лошадей был максимальным в группах из районов нижнего течения Волги и Дона, но резко снижался к востоку, как в Турганикском (TURG) поселении ямной культуры и Центральной Азии в 3 тысячелетии до н. э., по мере увеличения доли предков неолитических анатолийских лошадей. Компонент родословной типичный для современных домашних лошадей, также снижался и к западу от днепровских степей, что позволяет выделить регион вокруг низовья Волги и Дона как наиболее вероятное географическое место происхождения предков современных домашних лошадей в конце четвертого и начале третьего тысячелетий до нашей эры (выделен красным на первой иллюстрации).
Распространение степных скотоводов
Предыдущие анализы древних геномов человека выявили массовую миграцию степных скотоводов из степей Западной Евразии в Центральную и Восточную Европу в третьем тысячелетии до н. э., которые были связаны с ямной культурой. Эти миграции значительно повлияли и на культуру шнуровой керамики примерно с 2900 по 2300 год до н. э. Однако роль лошадей в миграционных процессах, оставалась неясной потому, как и волы вполне себе могли тащить тяжелые повозки ямников со сплошными цельными деревянными колёсами. При этом в генетическом профиле лошадей из контекстов культуры шнуровой керамики почти полностью отсутствовал компонент родословной как у современных домашних лошадей и лошадей раннеямного (репинского) горизонта, а также из Турганикского (TURG) поселения ямной. Также компонент родословной как у современных домашних лошадей был ограничен у лошадей до культуры шнуровой керамики из Дании, Польши и Чехии, связанных с культурой воронковидных кубков и ранней культурой ямочной керамики. Лишь у одной лошади из контекста винковацкой культуры Венгрии, датируемой серединой третьего тысячелетия до н. э., отмечено лишь 12,5% компонента родословной типичного для современных домашних лошадей. Однако моделирование показало, что эта примесь произошла благодаря потоку генов из Южной Фракии, а не из приднепровских степей. Что в сочетании с отсутствием увеличения расселения лошадей в начале третьего тысячелетия до н. э. свидетельствуют о том, что предки современных домашних лошадей не сопровождали миграцию степных скотоводов к северу от Карпат.
Примерно к 2200–2000 гг. до н. э. профиль предков типичный для современных домашних лошадей появился за пределами степей Западной Евразии, а после распространился по всей Евразии, в конечном итоге заменив все ранее существовавшие линии. Демографический рост на рубеже 2 и 3 тысячелетий отмечен повсеместно и проявляется как в митохондриальных, так и в Y-хромосомных вариациях.
Стоит отметить, что генетический профиль типичный для современных домашних лошадей был распространен среди лошадей, похороненных в курганах синташтинской культуры вместе с самыми ранними колесницами уже с колёсами со спицами около 2000-1800 гг. до н. э. Лошади с этим генетическим профилем были также найдены в Анатолии совместно с изображением двухколесных транспортных средств примерно с 1900 г. до н. э.
Karum II, Kiiltepe (From Littauer 6. Crouwel 1979: figure 29.)Однако появление генетического профиля современных лошадей в Богемии (Holubice), нижнем течении Дуная (Gordinesti II) и Центральной Анатолии (Acemhöyük) до появления самых ранних свидетельств о колесницах подтверждает идею о том, что верховая езда способствовала первоначальному расселению предков современных лошадей (спорно), на что могут указывать изображения в Месопотамии конца 3 и начала 2 тысячелетия до н. э.
А в конечном итоге сочетание верховой езды и колесниц, позволило лошадям с типичной родословной распространиться практически повсеместно. Но стоит учитывать, что пока нет согласия по факту раннего распространения верховой езды. Колесницы в этом вопросе более материальны.
Биологические адаптации современных домашних лошадей (DOM2)
Разведение лошадей, предположительно, должно было включать отбор по фенотипическим характеристикам, связанным с верховой ездой и колесницами. Поэтому авторы проверили, какие из генетических вариантов были более представлены у предков современных домашних лошадей с конца третьего тысячелетия до н. э., по сравнению с их более далёкими родственниками. В результате чего у домашних лошадей были обнаружены некоторые отличия в генах ответственных за нюансы строения позвоночника (GSDMC) и отвечающих за регуляцию настроения и агрессию (ZFPM1). Что в сумме может указывать на отбор лошадей, которые были более послушны, устойчивы к стрессу и выносливы.
Примечательно, что мутация в гене TRPM1, которая связана с леопардовой мастью и куриной слепотой (никталопией) при недостаточном освещении, в гомозиготном состоянии, на небольших частотах встречается у лошадей из ботайской культуры. При этом такая мутация отсутствует у их ближайших соседей на Алтае и Урале и поскольку слепота в сумерках снижает приспособленность, и увеличивает риск стать добычей в природе, наличие этого аллеля может подтвердить предыдущие интерпретации, что ботайские лошади всё же были одомашнены.
Эволюционная история и происхождение тарпанов
Новый анализ также позволяет пролить свет на происхождение тарпанов, которые вымерли в начале XX века. Они произошли благодаря смешению местных лошадей Европы с прибывшими предками современных лошадей, где-то на западе современной Украины в районе границы со Словакией, Венгрией и Польшей (см. графику выше). В моделях примеси европейские лошади примерно на треть представлены таковыми из культуры шнуровой керамики. Данные опровергают предыдущие гипотезы, в которых тарпаны описаны как дикие предки современных домашних лошадей или одичавшие их представители, а также как смесь с лошадьми Пржевальского.
Итоги
Новая работа разрешает давние споры о происхождении и распространении домашних лошадей. Их предками были лошади, жившие в степях Западной Евразии в конце четвертого и начале третьего тысячелетий до н. э. При этом нет никаких доказательств того, что они способствовали распространению степной родословной в Европу, как предполагалось ранее. Таким образом вместо нашествия всадников из степей, уменьшение численности населения в позднем неолите Европы, возможно за счёт снижения урожайности, могло дать возможность для миграций степных скотоводов на запад. Лошади раннеямного репинского горизонта, а также Турганикского поселения ямной, были более близки к предкам современных лошадей, чем предположительно дикие лошади из мест обитания охотников-собирателей 6 тысячелетия до н. э. (примерно 5500-5200 гг. до н. э.), что может свидетельствовать о ранних методах управления лошадьми и выпаса скота. Но несмотря на это, скотоводы ямной не распространили лошадей за пределы их родного ареала обитания, как и представители ботайской культуры не распространяли лошадей далеко за пределы оседлых поселений.
Их расселение в глобальном масштабе началось позже, когда предки современных домашних лошадей покинув родной ареал, сначала достигли Анатолии (Acemhöyük), нижнего Дуная (Gordinesti II), Богемии (Holubice) и Центральной Азии примерно к 2200-2000 годам до н. э. А затем распространились по Западной Европе и востоку Евразии, на территории современной Монголии, в конечном итоге заменив местные популяции примерно к 1500-1000 годам до н. э.
Этот процесс сначала включал верховую езду (спорно), поскольку колеса со спицами и колесницы представляют собой более поздние технологические инновации, появившиеся примерно в 2000-1800 годах до н. э. в синташтинской культуре в степях Южного Зауралья.
Оружие, воины и укрепленные поселения, связанные с этой культурой, возможно, возникли в ответ на усиление засушливости и конкуренции за критически важные пастбищные угодья, усиление территориальности и иерархии. Это могло послужить основой для завоеваний в последующие столетия, которые привели к почти полному генетическому обмену, в степях Центральной Азии, как между людьми, так и лошадьми.
Расширение в Карпатский бассейн и, возможно, в Анатолию и Левант, включало в себя скорее торговый сценарий. Хотя в обоих случаях отбирались лошади более покорные и выносливые, а также с другими качествами, учитывая в том числе и окрас.
Результаты работы также имеют важное значение и для понимания механизмов, лежащих в основе распространения индоевропейских языков. Выяснилось, что лошади не были основной движущей силой первоначального распространения индоевропейских языков в Европе, потому как у представителей культуры шнуровой керамики, с представителями которой и связывают распространение языков, было малое количество лошадей, а их генетический состав не соответствует предкам современных домашних лошадей. Также несмотря на наличие в индоиранской ветви индоевропейской семьи языков лингвистических свидетельств наличия домашних лошадей и колесниц, на более древнем протоиндоевропейском уровне эти свидетельства являются не убедительными.
Однако в Азии наблюдается иная картина, где распространение предков современных домашних лошадей в период с начала до середины второго тысячелетия до н. э., происходило одновременно с распространением колесниц и индоиранских языков, самые ранние носители которых связаны с населением, непосредственно предшествовавшим синташтинской культуре, в контексте которой и были обнаружены первые колесницы.
Таким образом исследователи делают вывод, что новый тип транспорта и пород лошадей, включая рыжий окрас шерсти, задокументированные как лингвистически, так и генетически, значительно преобразили евразийское общество в течение нескольких столетий примерно после 2000 г. до н. э. А направления использования лошадей варьировалось в зависимости от организации обществ в которых они распространялись. Но эти нюансы авторы оставляют для будущих исследований.
Источник:
Librado, P., Khan, N., Fages, A. et al. The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature 598, 634–640 (2021). doi.org/10.1038/s41586-021-04018-9
Период после скифов и хунну, до Тюркского каганата, именуемый «гунно-сарматским», в историографии Центральной Азии, довольно интересен, потому как культуры этой эпохи отличаются как от предыдущей «скифской», так и от последующей «тюркской». Хронологически этот период попадает между II веком до н. э. и V веком н. э. и может также именоваться как «хунну-сяньбийское» время. Чтобы было проще представить этот период и осознать его важность в глобальной истории, то как раз примерно в это время происходило чередование и смешение людей с различными западными и восточными генетическими, и антропологическими профилями. И вполне возможно, что также происходила замена языков, преимущественно в сторону тюркских.
Среди нескольких культурных традиций на просторах Центральной Азии, после улуг-хемской культуры, переходной от скифского периода, заметно выделяется кокэльская культура на территории Тувы с I века н.э.
Данный обзор как раз и посвящен работе, опубликованной в этом году, с результатами полевых исследований 2018-2019 гг. южной периферии раннескифского кургана Туннуг-1, тувинской «Долины царей» IX в. до н. э., где были сосредоточены значительно более поздние объекты кокэльской культуры II-IV вв. н. э., представители которой повторно использовали это место уже в своих ритуальных целях.
При этом сразу хочу выразить благодарность руководителю раскопок и одному из авторов описываемой научной работы – научному сотруднику отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН – Тимуру Рашитовичу Садыкову, не только за помощь в написание обзора, но и в целом за его работу, благодаря которой мы узнаём много нового и интересного, тем самым заполняя пробелы в наших знаниях. Также хотелось поблагодарить всех участников экспедиций и раскопок за вклад в наше представление о прошлом.
Кокэльская культура, общие сведения
Кокэльская культура не демонстрирует очевидной связи с материальной культурой хунну и на данный момент не обнаружено археологических участков со смесью предметов из этих культур, за исключением тех мест, где погребения кокэльской культуры, как бы внедрены в более древние объекты хунну, что довольно характерно для могильников Тувы, которые редко состоят из памятников одного периода.
Территория распространения кокэльских памятников пока ограничивается территорией современной Республики Тыва, севернее хребта Танну-Ола. С севера и запада кокэльская культура граничит с таштыкской в Минусинской котловине Хакасии, которая пришла на смену тагарской и с булан-кобинской культурой Горного Алтая, сменившей пазырыкскую.
В кокэльской культуре можно выделить три категории археологических памятников - погребения, ритуальные объекты и поселения или сезонные стоянки. Рассмотрим каждый более подробно.
Погребения
Погребения кокэльской культуры в основном представлены одиночными захоронениями, покрытыми насыпями без чётких контуров, которые из-за плотности расположения могут образовывать некие аморфные структуры с более чем сотней захоронений. Подобные комплексы характерны для Западной Тувы и были изучены на могильнике Кокэль и в ходе предварительных разведок. Людей хоронили преимущественно в деревянных гробах (реже без них) внутри узких ям, каменные ящики встречаются реже, в отличие от постскифских погребений улуг-хемского типа.
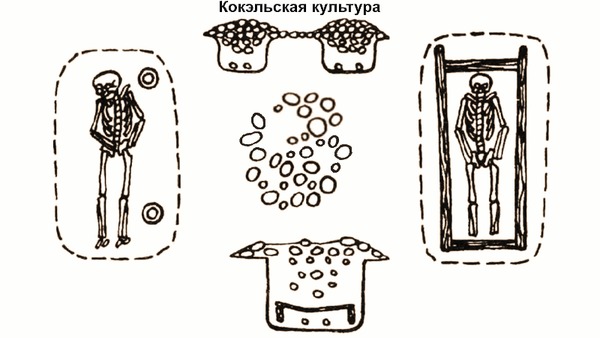
Засыпали ямы не только грунтом, но и камнями. Ориентация тел хаотична, хотя и с неким преобладанием положения головой на северо-запад, а ногами на юго-восток, лёжа на спине в вытянутом положении. Кокэльские курганы разнятся по форме и могут быть как круглыми, так и полуовальными или аморфными. Причём более крупные курганы не планировались изначально, а являются результатом постепенного накопления захоронений, что отличает их от других более ранних степных культур с централизованными погребениями. Однако помимо возведения своих курганов, кокэльские захоронения могут быть внедрены в более древние.
Большинство кокэльских захоронений в различных количествах содержат керамику, иногда в форме котлов, изготовленную без применения гончарного круга, по форме и орнаменту которой, обычно, и относят памятники к кокэльской культуре, а также однолезвийные железные ножи, пряжки и поминальную или сопроводительную мясную пищу.
Иногда встречаются элементы оружия и предметы домашнего обихода. Из оружия чаще встречаются наконечники стрел, а реже накладки для лука и палаши. Бронзовые и золотые изделия встречаются ещё реже. При этом многие предметы погребений представляют собой не полноразмерные изделия, а скорее миниатюрные модели. Но этот перечень может быть больше из-за разной степени сохранности артефактов, как к примеру, в захоронениях могильника Кокэль были дополнительно найдены предметы из дерева и бересты.
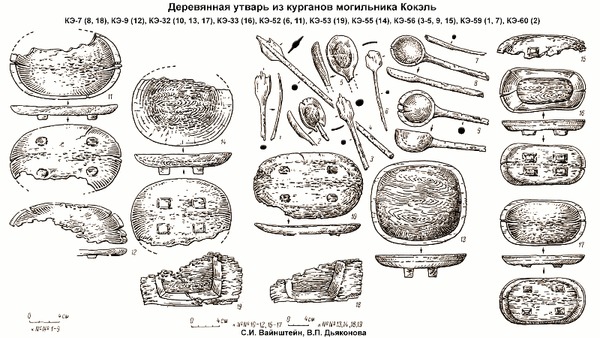
Антропология
Могильник Кокэль также примечателен тем, что ранее только с этого участка были доступны некоторые антропологические данные по 380 захороненным из разных курганов. Анализ скелетов показал, что большинство погребенных были в возрасте от 20 до 50 лет, причём две трети были мужчинами, некоторые из которых умерли от травм в ходе конфликтов. Причины малого количества женщин неясны, предыдущие исследователи предполагали предвзятое к ним отношение, вплоть до искусственного сокращения их числа. По мнению предыдущих авторов, объединенные антропологические и археологические данные из могильника Кокэль указывают на социальное разделение по полу и возрасту. Такие особенности, как глубина могил и распределение золотых предметов, могут быть маркерами социального статуса. К примеру, неглубокие захоронения в основном включают останки подростков и взрослых женщин, а глубокие, более 2 метров, почти всегда содержат останки взрослых мужчин. Причём в погребениях мужчин в возрасте от 40 до 60 лет чаще встречались золотые изделия.
Что касается морфологии черепов кокэльцев, то антропологический анализ, проведенный Алексеевым В. П. и Гохманом И. И., указывает на значительное смешение монголоидного и европеоидного населения, что характерно для так называемого южно-сибирского антропологического типа, как у киргизов, казахов и некоторых хакасов, в отличие от более европеоидного населения региона скифского времени. Кстати, если учитывать некую близость кокэльской культуры к таштыкской, не только в территориальном плане, их облик можно представить по сохранившимся погребальным маскам таштыкцев.
Ритуальные объекты
Поминальники или надсосудные насыпи, предназначение которых лежит в плоскости представлений о загробном мире — это один из наиболее часто встречающихся типов археологических объектов кокэльской культуры, которые представляют собой каменные насыпи преимущественно над одним керамическим сосудом. Размеры насыпей могут быть, как до 3 м в диаметре, так и более крупные, как у погребений. При этом под одной насыпью могут располагаться и сосуды, и погребения. Помимо этого, в некоторых случаях в одном кургане можно найти несколько отдельно расположенных сосудов
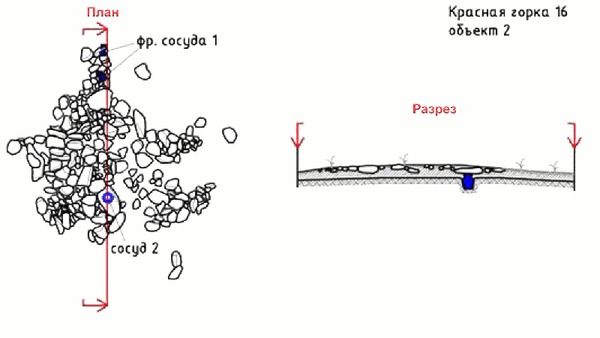
Хотя насыпи над сосудами обычно встречаются вместе с курганами, известны участки, состоящие только из ритуальных объектов, без кокэльских погребений.
В большинстве случаев, что характерно для Тувы, погребения и поминальники кокэльской культуры расположены в непосредственной близости от более старых курганов, например, раннего железного века, а в некоторых случаях и внедрены в них.
Под курганами и надсосудными насыпями часто фиксируются следы костров, зола и фрагментированная кокэльская керамика, что предполагает некие ритуальные действия, связанные с огнем.
Поселения
В 2014-2015 годах Тимуром Садыковым была раскопана укрепленная сезонная стоянка Катылыг 5. Другое место — Чыварлыг 1 известно из обследований и может быть ориентировочно отнесено к тому же периоду времени. Стоит отметить, что не все типы керамики, которые были найдены в погребениях, обнаружены в поселениях. Это касается сосудов в форме котлов, которые до сих пор не были найдены в контексте поселений, и вполне возможно, что этот тип сосудов изготавливался специально для захоронений.
Необычный тип сосуда асимметричной формы, встречающийся исключительно в поселениях, уникален для Внутренней Азии и еще не связан с определенной целью.
Катылыг 5 продемонстрировал, что население, связанное с этой материальной культурой, вело полукочевой образ жизни относительно небольшими группами. По оценкам, в поселении площадью около 4200 м2 могло размещаться до 30 жителей. Судя по костям животных, состав стад был относительно близок к тому, что можно наблюдать сегодня среди тувинских скотоводов. А по самым скромным подсчётам, для существования семьи из четырех человек при старом комплексном тувинском хозяйстве нужно было иметь около 4-5 коров, примерно 60 голов овец и 2-3 лошади. Хотя содержали не только перечисленных животных. А рацион дополняли охотой на кабанов, зайцев и оленей.
Кстати в комментариях напишите, кто слышал о делении домашних животных у кочевников степной части Тувы на так называемый «скот с холодным дыханием» (как козы и коровы) и «горячим» (как овцы и лошади)? Особенно было бы интересно почитать комментарии тувинцев.
В настоящее время территория древнего поселения Катылыг 5 используется в качестве летнего пастбища. При раскопках также не было обнаружено никаких следов значительных жилищ, что может свидетельствовать об использовании легких конструкций, которые не обеспечивают необходимой защиты в суровые зимы.
Судя по находкам, железо было основным материалом для орудий труда и оружия, а бронза отсутствовала. Плавильные печи топились древесным углем из местных хвойных пород. Укрепления даже сезонного (летнего) поселения в высокогорной таежной зоне указывают на довольно враждебную среду, характеризующуюся ожесточенными конфликтами. Однако признаков разрушений стоянки Катылыг 5 во время ее раскопок отмечено не было.
Стоит отметить, что радиоуглеродные даты для кокэльских захоронений у кургана Туннуг-1 совпадают с таковыми для укрепленного поселения Катылыг 5 и попадают в диапазон со II по IV век н. э.
Подчеркну, что это возраст кокэльских памятников, а сам курган датирован IX веке до н. э.
Результаты
Раннескифский курган Туннуг-1 расположен, на территории современной Республики Тыва, в так называемой «Долине царей» в пойме рек Туннуг и Уюк с сезонными затоплениями, и по времени относится к «аржанскому» горизонту раннескифской культуры, при этом немного древнее кургана Аржаан-1, поэтому в более ранней научной литературе можно встретить рядом с названием Туннуг-1 и название Аржаан-0.
В ходе довольно трудоёмких раскопок южной периферии этого кургана, были изучены структуры, относящиеся к кокэльской археологической культуре, включающие один большой курган и несколько отдельных, а также ритуальные объекты.
Курган кокэльской культуры можно стратиграфически разделить на 18 археологических структур, которые возводились постепенно, что и привело к увеличению размеров насыпи.
Археологические структуры, в свою очередь, состоят из объектов, которые обычно представляют собой ямы с одним или несколькими захоронениями. Помимо этого, были обнаружены отдельные скелеты, погребенные в каменном слое кургана без ям или какого-либо другого структурного разделения. Людей хоронили как с погребальным инвентарём, так и без него.
Всего были обнаружены останки 67 человек, из них 20 были захоронены в центральной яме (объект №17 на графике), которая, вероятно, представляла собой групповое захоронение, нарушенное более поздней деятельностью людей.
Среди захороненных преобладают дети от 3 до 12 лет и молодые люди от 19 до 34 лет. Среди взрослых, мужчины составляют большинство 63,2 %, что аналогично пропорциям в могильнике Кокэль, в то время как распределение по возрасту немного отличается.
Большое количество мужчин из погребений имеют предсмертные травмы, которые наводят на мысль о том, что они погибли в ходе боёв, набегов, казней или ритуальных практик.
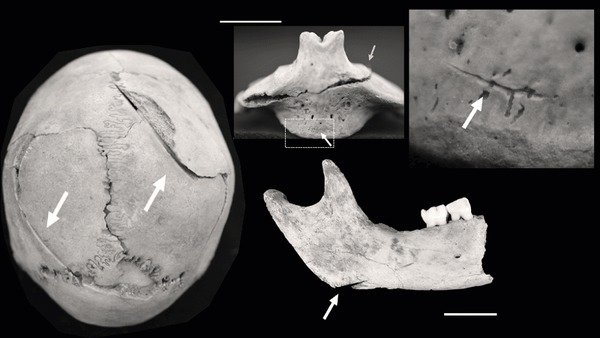
Это может быть одной из причин дисбаланса между мужчинами и женщинами в захоронениях.
А чтобы продемонстрировать изменчивость кокэльской материальной культуры, авторы исследования приводят подробные описания 3-х объектов.
Объект 46
Объект 46 представляет собой каменную насыпь диаметром 3 м, состоящую из 2-3 каменных слоев, с погребальной ямой не в центре кургана. Между камнями были найдены фрагменты керамики того же типа, что и сосуд у изголовья погребённого. Непосредственно над самим скелетом располагались крупные камни, что является одной из характерных черт кокэльских погребений, хотя часто засыпка погребальных ям состоит только из камней.
Погребальная яма размером 2,0 х 0,7 м находилась на глубине полуметра от уровня дневной поверхности, т.е. той поверхности, откуда собственно и начинали обустройство захоронения. Лежащему на спине, головой на северо-запад, похороненному мужчине на момент смерти было около 40–50 лет.
Погребальные принадлежности включают расположенный рядом с головой умершего керамический сосуд с арочными мотивами в орнаменте, железный нож и пряжку в районе живота, а также шесть железных черешковых трехлопастных наконечников стрел возле левой руки (скорее всего, остатки колчана, погребенного вместе с человеком) и один наконечник стрелы находился в районе головы.
Объект 33
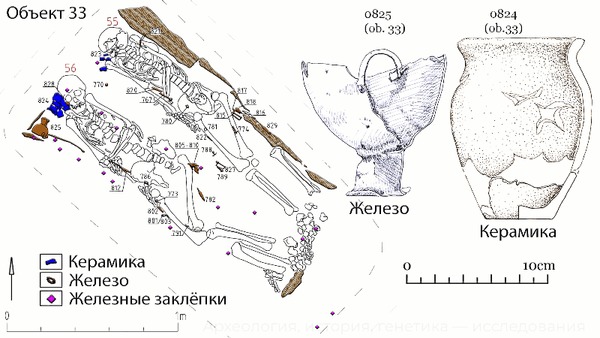
Это захоронение двух мужчин 30-40 лет в отдельных деревянных гробах, лежащих на спине и головами на северо-запад, покрытых скоплением камней, в яме глубиной 1,1 м и размером 2,0 х 2,5 м. На наличие разных гробов указывают около 20 заклёпок, равномерно расположенных над одним из скелетов и остатки дерева возле другого. Заклёпки использовались для крепления ткани к крышке гроба – обычай, широко распространенный со времен хунну. Отпечатки ткани на обратной стороне заклепок подтверждают это. На участке раскопок эта традиция наблюдается в единичном случае. А частичное наложение костей стоп, вероятно, связано с разложением дерева, за которым последовали переменные процессы промерзания и оттаивания, которые стали причиной смещения частей тела. Скобообразная застёжка и крючок для колчана, скорее всего, были из погребения, изображенного слева на иллюстрации. При этом, хотя крючки для колчанов с поперечным стержнем широко распространены в погребениях как кокэльской, так и других культур из соседних регионов, изделия в форме скобок встречаются довольно редко. На момент написания статьи, была известна только одна подобная находка из погребения постпазырыкской булан-кобинской культуры Алтая, где похожий предмет также был найден рядом с крючком для колчана. Функциональное назначение этих предметов пока не выяснено, но, похоже, это части колчанов. Помимо этого, погребальный инвентарь из этого же погребения состоял из шести железных наконечников стрел в районе левого бедра, железных и керамических сосудов справа у головы, железного ножа с кольцевой рукоятью в правой руке, ножей у ног, двух пряжек у пояса, крючка меньшего размера у колен и круглой железной пластины с отверстием справа от головы.
Погребальный инвентарь захороненного по соседству состоял из трех железных наконечников стрел также в районе левого бедра, скобообразной застёжки и крючка для колчана, как и у соседа, а также двух пряжек, трех железных ножей и нескольких фрагментов керамики справа возле головы.
Два ножа расположены по разные стороны ног, третий с кольцевым навершием был найден под изогнутой в локте левой рукой. Пара небольших железных пряжек была впервые найдена в погребениях кокэльской культуры. Они могут происходить от более крупных железных пряжек с фиксированным язычком, которые были широко распространены со времен хунну.
Помимо этого, в области рёбер слева, был ещё один наконечник стрелы, отличающийся от трёхлопастных у бедра.
Объект 22
Это погребение взрослой женщины в возрасте 25-30 лет, которая была похоронена в деревянном гробу в вытянутом положении и головой на запад.
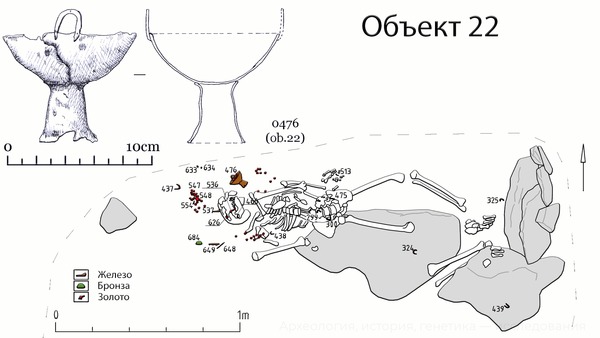
Само захоронение нарушено криогенными или мерзлотными процессами, что привело смещению элементов скелета. В её погребальном инвентаре зарегистрировано 82 предмета, из них 65 были золотыми и, скорее всего, представляют собой элементы головного убора.
Помимо золотых предметов, остальная часть погребального инвентаря плохо сохранилась и фрагментирована. Миниатюрный железный сосуд в форме котелка был найден слева возле головы, также были найдены фрагмента двух железных ножей и еще два фрагмента были обнаружены во время просеивания и промывки отвала. Остальные железные предметы фрагментированы, но, судя по положению, это могли быть плохо сохранившиеся пряжки. Помимо этого, между челюстями захороненной была обнаружена спираль из золотой фольги.
Такие находки редки, хотя похожие элементы были задокументированы в могильнике Кокэль. Они, по-видимому, присутствуют как в женских, так и в мужских захоронениях. Изделие напоминает украшения груди или шеи, однако её расположение в районе челюсти вызывает вопросы. Может это ремешок для подбородка, как у некоторых культур восточной части степного евразийского пояса. Хотя вполне возможно и то, что спирали из золотой фольги не были повседневными и, по-видимому, выполняли какую-то функцию в погребальном ритуале.
Также были найдены ромбовидные серьги, не имеющие точных аналогов в регионе, но технологически они похожи на серьги, найденные при раскопках могильника Кокэль и погребений булан-кобинской культуры Алтая.
Более мелкие золотые изделия расположены в трех группах вокруг головы, что позволяет предположить, что они, вероятно, были частью головного убора.
А единственным бронзовым артефактом (№684) из погребения, возможно, был фрагментом китайского бронзового зеркала империи Хань, аналогичные части китайских зеркал известны из могильника Кокэль.
Итоги
Археологические данные из Тувы первых веков нашей эры не указывают на заметную социальную организацию и присутствие элит. Изученные захоронения довольно однородные и различия между ними незначительные, а также не найдено никаких археологических объектов, которые были бы созданы для конкретного человека с высоким статусом. А золотые изделия в погребениях отдельных людей, как к примеру, из захоронения женщины, описанного выше, по-видимому, стоит рассматривать как личные украшения, а не как признак статуса, поскольку общая обстановка могилы не демонстрирует отличительных особенностей в ритуале. Люди с золотыми изделиями были похоронены с той же керамикой и железными предметами, а также на тех же участках и в ямах такого же размера, что и люди без золота.
Захоронения элит известны из раннего железного века, периода хунну и тюркских каганатов, но на данный момент ни одно из погребений со II по IV век не демонстрирует погребальных обычаев характерных для элит. Заметное отсутствие таких захоронений может указывать на отсутствие централизованной власти или её контроля. А высокая доля насильственных смертей, может расцениваться как наличие мелкомасштабных конфликтов. Многочисленные следы ранений на некоторых скелетах, по-видимому, указывают на беспорядочные набеги, а их распределение по телу показывает, что люди сражались как пешком, так и верхом. Частые находки наконечников стрел в разных областях скелетов, помимо добавленных в колчанах рядом с захороненными, дополняют эти наблюдения. Всего в результате раскопок было найдено девять наконечников стрел из разных захоронений, которые могли нанести серьезные повреждения.
Примечательно, что эти наконечники стрел часто типологически отличаются от тех, что были найдены в колчанах из погребального инвентаря рядом с умершими. Причём эти наконечники довольно разнообразны, что противоречит идее о боестолкновениях с хорошо организованными вооруженными группами.
Предварительные зооархеологические данные из Катылыга 5 показывают, что экономика была основана на отгонном животноводстве, вероятно, без межрегиональной мобильности.
В археологических записях преобладает местная продукция, в частности керамика и изделия из железа. В северо-западной части городища Катылыг 5 зафиксированы остатки около десятка железоделательных горнов, т.е. прямые доказательства местного производства металла.
В настоящее время анализ источников глины, которая использовалась для изготовления сосудов в погребениях ещё проводится, но в целом находок, которые могли бы свидетельствовать о дальних контактах, практически нет. Даже части бронзового зеркала династии Хань не могут однозначно свидетельствовать о прямом импорте.
Раскопки периферии кургана Туннуг-1, выявили предметы, ранее не известные в таком виде на других кокэльских участках. Необычные железные элементы для крепления колчанов и пряжки могут быть дополнительными аргументами в пользу местных традиций небольших племен.
С упадком хуннской империи социальные группы Тувы, вероятно, вернулись к мелкомасштабной племенной организации и связи на больших расстояниях больше не поддерживались. А в археологических записях того времени отсутствуют престижные предметы, которые можно было бы однозначно идентифицировать как импорт.
Крах надрегиональных контактов и властных структур в виде так называемых “сверхсложных вождеств”, вероятно, привел к значительному сокращению торговли и, возможно, к экономическому спаду. При этом растущая раздробленность и скопление местных материальных сборок отражает упадок центральной власти.
О социальных или политических событиях во времена после хунну известно лишь в самых общих чертах.
В то время как письменные источники рисуют относительно подробную картину восточных степей во времена конфликта между династией Хань и хунну, период времени, в течение которого появляется кокэльская материальная культура, в письменных источниках не представлен и его следует рассматривать как дописьменный. Потому как даже во времена империи Хунну, китайские источники в основном умалчивают о дальних её рубежах. При этом стоит отметить, что несмотря на четкое хронологическое разделение, материальная культура хунну, всё же является отдалённой предшественницей кокэльской и с археологической точки зрения, кокэльская археологическая культура всё же более тесно связана с культурой хунну, чем с более поздней тюркской.
Реконструкция социальной и политической истории в степном поясе остается спорной, но территория Тувы, по-видимому, время от времени входила в состав империи Хунну или, по крайней мере, включала обычаи, типичные для более крупного комплекса этой материальной культуры, что отражено в немногочисленных археологических памятниках хунну в регионе, хотя и со значительной долей местного культурного влияния.
Выводы
Благодаря новым данным, представление об археологических материалах и связанной с ними социально-экономической ситуации в Туве в первые века н. э. значительно изменилось. Первоначальное представление о том, что кокэльская культура возникла благодаря наложению материальной культуры хунну на местный постскифский субстрат, больше не выдерживает критики. Радиоуглеродное датирование позволило подтвердить предлагаемое сокращение широкого временного интервала существования кокэльской культуры с семи столетий до относительно короткого промежутка времени между I и IV веками н. э., тем самым выявив значительный хронологический разрыв в истории Тувы со II в. до н. э. по I в. н. э. Общества, связанные с кокэльской материальной культурой, скорее всего, представляли собой небольшие племенные объединения, сосредоточенные вокруг больших семей. При этом в погребальных обрядах не прослеживается никакой ярко выраженной социальной иерархии. А отсутствие импортированных товаров и локализация археологического материала говорит об ограниченной географической протяженности этих групп, вдали от торговых сетей и престижных товаров. Тем не менее конкуренция за местные ресурсы была ожесточенной, о чём свидетельствует наличие скелетных травм. А стало быть, набеги и межплеменные конфликты играли важную роль в жизни этих групп.
Ситуация резко меняется в VI в. с экспансией тюрок в составе Тюркского каганата, когда вновь появляются бронзовые и престижные товары, надрегиональная материальная культура, а также контакты на большие расстояния.
А в целом работа демонстрирует как археологи и другие учёные по крупицам собирают информацию о жизни людей в прошлом. И это только часть той, возможной информации, которую можно извлечь из полученных материалов. Мы конечно же будем ждать генетических и, возможно, изотопных анализов.
Источник:
Sadykov T, Caspari G, Blochin J, Lösch S, Kapinus Y, Milella M (2021) The Kokel of Southern Siberia: New data on a post-Xiongnu material culture. PLoS ONE 16(7): e0254545. doi.org/10.1371/journal.pone.0254545
Этрусская цивилизация занимала большую территорию центральной Италии в период железного века, включая современные регионы Тоскана, Лацио и Умбрия, с локальным расширением в соседние итальянские регионы на протяжении всего своего существования.
Этруски примечательны своей материальной культурой, включающей металлургию и вымершим, неиндоевропейским языком. Учитывая особенности, отличающие эту культуру от их соседей, географическое происхождение населения, связанного с этрусской цивилизацией, долгое время было темой интенсивных дискуссий еще в древние времена, с двумя главными конкурирующими гипотезами.
Первая предполагает анатолийское / эгейское происхождение, на что указывают древнегреческие историки Геродот и Гелланик Митиленский с Лесбоса. Эта гипотеза подтверждается присутствием древнегреческих культурных элементов в Этрурии в так называемый период ориентализирующего стиля, между VIII и VI веками до н. э.
Вторая гипотеза выступает за автохтонное развитие, о чём писал в I веке до н. э. древнегреческий историк Дионисий Галикарнасский. Согласно этой гипотезе, этруски были местными и произошли около 900 года до н. э. от людей, связанных с культурой протовилланова позднего бронзового века.
В то время как современные археологические данные поддерживают последнюю гипотезу, сохранение вероятного неиндоевропейского языка-изолята в окружении италийских индоевропейских языковых групп, таких как латины, является интригующим и все еще необъяснимым явлением, требующим дальнейших археологических, историко-лингвистических и генетических исследований.
После более чем четырех столетий широкого регионального развития, в IV в. до н. э., этрусская цивилизация была ассимилирована римлянами в результате серии римско-этрусских войн, которые закончились в 264 году до н. э. Несмотря на этот период изменений, этрусские культурные и религиозные традиции сохранялись на протяжении последующих веков, даже после включения Этрурии в состав Римской империи после 27 г. до н. э.
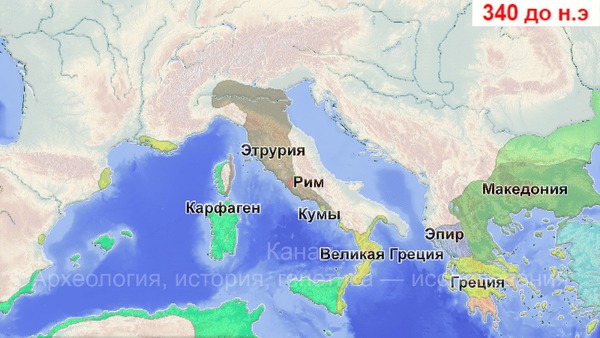
В период Великого переселения народов и после распада Западной Римской империи в V веке н. э. этот регион на короткое время был включен в состав Восточной Римской империи. После чего, в период раннего Средневековья, значительная часть Апеннинского полуострова была завоевана лангобардами, которые более двух столетий правили территорией в составе Лангобардского королевства до 774 года. На смену лангобардам на севере Италии пришла Каролингская империя, приемниками которой позже считали себя императоры Священной Римской империи.
Анализ ДНК людей, которые жили в течение вышеупомянутых периодов, может помочь разобраться в ряде вопросов.
А именно:
1. Как сочетаются задокументированные исторические события с изменениями в моделях предков на уровне популяции?
2. С чем были связаны эти изменения, с миграциями извне или повышенным уровнем мобильности?
3. Как все эти процессы повлияли на генофонд современных итальянцев?
В течение последнего десятилетия генетические данные по теме этрусков были весьма противоречивы. Анализ мтДНК современных тосканцев продемонстрировал связь с нынешними анатолийскими популяциями, что было интерпретировано как свидетельство ближневосточного происхождения этрусков. Однако анализ древней мтДНК людей, связанных с этрусками, не показал никаких доказательств генетической преемственности между ними и современными популяциями из того же региона, за исключением некоторых изолированных мест в Тоскане. При этом древние геномы из Италии довольно ограничены, и по всей материковой её части доступны лишь скудные данные от неолита до Римской республики.
У людей из Рима и окрестностей этого древнего города, времён железного века и Римской Республики (с 900 по 27 год до н. э.), преобладали генетические компоненты, которые характеризуют большинство европейцев начиная с бронзового века.
Однако у троих человек были обнаружены компоненты Северной Африки и Ближнего Востока, что является еще одной демонстрацией широких связей Рима по всему Средиземноморью еще в железном веке. При этом неожиданным для исследователей оказалось то, что почти все люди более позднего, имперского периода в окрестностях столицы имели значительную долю восточносредиземноморского происхождения, которая позже сократилась в поздний античный и раннесредневековый периоды. Но степень, в которой эти изменения отражают процессы, происходившие на остальной части Апеннинского полуострова, еще предстояло выяснить.
И вот в новой работе авторы проанализировали геномные данные 70 человек из 12 археологических памятников, связанных с этрусками, и последующими группами с 800 г. до н.э. по 1000 г. н. э. Также были получены геномные данные 16 человек VIII в. н. э. из Венозы в Базиликате для сравнения генетического состава популяций в раннем Средневековье из Центральной и Южной Италии. Также данные были дополнены новыми радиоуглеродными датами.
Совместно полученные результаты помогают решить ключевые вопросы, касающиеся генетического происхождения этрусских групп и их взаимоотношений с другими соседними и более поздними популяциями. Кроме того, авторы оценили генетическое влияние исторических событий, таких как создание Римской империи в Этрурии, охарактеризовали генетический состав людей раннего Средневековья в центральной и южной частях Апеннинского полуострова, а также выявили уровень генетической преемственности между древними культурами и современным населением.
Результаты
Анализ геномов 82 древних людей, почти за ~ 2000 лет итальянской истории из Тосканы, Лацио и Базиликаты, выявил основные эпизоды генетической изменчивости.
В работе эти образцы были сгруппированы в три временных интервала на основе их радиоуглеродных дат и генетического сходства:
1. 48 человек были сгруппированы в кластер железного века и Римской республики от 800 до 1 г. до н. э.
2. 6 человек в имперский период от 1 до 500 г. н. э.
3. 28 человек были отнесены к интервалу от 500 до 1000 г. н.э. При этом 12 образцов этого периода представляют Центральную Италию, а 16 Южную.
Железный век и Римская республика
На протяжении первого интервала (от 800 до 1 г. до н.э.) большинство образцов образуют однородный генетический кластер этрусков Италии.
А их положение на графике анализа главных компонент совпадает с современными испанцами. Но были и единичные находки людей, которые генетически отличались от этрусков, в данной работе они представлены: четырьмя людьми с североафриканским генетическим профилем, тремя с центральноевропейским и одним с ближневосточным.
Причём эти единичные представители не оставили существенного генетического наследия. Поэтому вопреки предыдущим предположениям генофонд этрусков, скорее всего не связан с миграциями с Ближнего Востока. Этруски напротив демонстрируют местный генетический профиль, общий с другими соседними популяциями, такими как латины из Рима и его окрестностей, несмотря на культурные и языковые различия между этими двумя соседними группами. При этом генетический профиль этрусков состоит из трёх основных компонентов, а именно неолитических анатолийских земледельцев, западноевропейских охотников-собирателей и скотоводов бронзового века из Причерноморско-Каспийской степи.
Подтверждая тенденцию, наблюдаемую в большинстве других европейских регионов. Потому как степной генетический компонент, также достиг центральной Италии в эпоху бронзы, но раньше, чем Сардинии.
Из исследования 10 мая 2021 г
Примечательно, что у единственного образца, смещённого в сторону ближневосточного населения в анализах, модель смешения между неолитическими и степными предками не соответствует его генетическому профилю. Вместо этого профиль этого человека можно смоделировать как смесь между кластером этрусков и популяциями с Кавказа, как с территории Армении бронзового века, что указывает на единичное присутствие иранской родословной в Этрурии, по крайней мере, ко второму веку до н. э.
Анализ главных компонент выявляет полное совпадение между людьми железного века и Римской республики из Тосканы и Лацио, включая древний город Рим. А это указывает на то, что степные компоненты уже были широко распространены к железному веку в разноязычной среде, включая как носителей индоевропейских языков – италийских и кельтских, так и неиндоевропейского языка этрусков. Примечательно, что язык этрусков сохранился несмотря на значительную примесь, демонстрируя ситуацию очень схожую с басками.
Это лингвистическое постоянство в сочетании с генетическими изменениями бросает вызов упрощенным предположениям о том, что гены равны языкам, и предполагает более сложный сценарий, который, возможно, включал ассимиляцию ранних носителей италийских языков, сообществом, говорящим на этрусском языке, возможно, в течение длительного периода смешения во втором тысячелетии до н. э., ещё до появления собственно этрусской цивилизации. Этот сценарий выглядит более правдоподобным благодаря недавнему обнаружению степной родословной в Центральной Италии еще с 1650 года до н. э. с последующим её увеличением со временем.
Хотя этрусский язык считается реликтовым языком, который сохранился в Центральной Италии до имперского периода, он не был изолирован. Вместо этого он, по-видимому, был связан как с ретским языком, задокументированным в восточных Альпах у населения, которое, как утверждают древние историки, мигрировало из района Паданской низменности на севере Италии, так и с языком Лемносской стелы, на котором предположительно говорили на древнем Лемносе в Эгейском море.
Это оставляет открытым вопрос о том, могут ли эти "Тирренские языки" каким-то образом относиться к морским экспансиям из Восточного Средиземноморья. Однако отсутствие компонентов, связанных с иранской родословной у этрусков может также свидетельствовать о том, что тесная языковая близость через Средиземное море может отражать перемещения населения, но от Апеннинского полуострова.
В новом наборе данных самый ранний представитель с неместным генетическим профилем, датированный VII веком до н. э. (CAM002) близок к центральноевропейским популяциям того периода. В раннем железном веке как раз гальштатская культура, связанная с кельтскими группами, занимала регион к северу от Альп. Хотя существуют археологические свидетельства обмена товарами и технологиями между этрусской цивилизацией и северными культурными группами с VIII века до н. э., об обширных прямых контактах сообщается только позже, во времена латенской культуры, когда группы, связанные с кельтами, распространились по северной части современной Италии, ближе к этрусским территориям.

В представленном наборе данных присутствует еще один человек (VET005) но уже датированный III веком до н. э., с таким же генетическим профилем, как у вышеописанного более древнего представителя CAM002, несмотря на их почти 400-летнюю разницу в датировках. Это говорит о преемственности в источнике центральноевропейской генетической родословной, изредка встречающейся в Этрурии в периоды от гальштатской до латенской культур. Однако за последние 4 столетия перед нашей эрой, в отличие от предыдущего четырёхсотлетнего периода, наблюдается больший вклад от людей, несущих неместные генетические профили, демонстрирующих наибольшее сходство с Ближним Востоком и Северной Африкой. Это может быть объяснено усилением контактов между Этрурией и другими регионами. Что наблюдается не только в прибрежных, но и во внутренних районах Этрурии. Показательный случай такой межконтинентальной связи наблюдается на археологическом участке Сан–Джермано в Ветулонии (VET), где даже в пределах одной и той же гробницы наблюдается четкий генетический переход от местного генетического профиля в VIII-VI веках до н. э. к предкам, связанным с Центральной Европой и Северной Африкой, в IV-III веках до н. э. В течение последнего периода аналогичный генетический сигнал, связанный с Северной Африкой наблюдается и у двух других людей из отдаленно расположенного участка Тарквинии в Лацио. Хотя требуется больше данных из этого временного интервала, чтобы определить, представляют ли эти находки распространённое явление, возможно, что на появление этой родословной повлияла карфагенская экспансия в Средиземном море.
Однако подавляющее большинство жителей первого тысячелетия до н. э. демонстрируют высокий уровень генетической преемственности на протяжении более 800 лет, начиная с периода после культуры виллановы до конца Римской республики.
Хотя в Этрурии не обнаружено повышенной близости к центральноевропейскому происхождению, авторы не исключают возможности того, что в соседних регионах имело место смешение с популяциями со схожими генетическими профилями, например, с группами, связанными с латинами.
Тем не менее, заметная генетическая стабильность в Этрурии на протяжении почти тысячелетия согласуется с историческими данными, которые описывают ее ассимиляцию в Римскую Республику как политический, а не демографический процесс, о чем свидетельствует сохранение этрусской культуры и ее языка в регионе на протяжении веков.
Римская империя
С вышеописанным резко контрастируют все проанализированные представители периода Римской империи от 1 до 500 г. н. э., которые демонстрируют заметный сдвиг в родословной в сторону Восточного Средиземноморья.
Хотя на величину этого сдвига может повлиять изменение в погребальных обрядах — таких как кремация и ингумация — среди групп с течением времени, этот сдвиг четко отражает роль Римской империи в крупномасштабном перемещении людей во время повышенной социально-экономической и географической мобильности. В центральной Италии, в том числе вокруг самого Рима, обнаруженные новые предковые линии в основном происходили с Ближнего Востока, а не из других районов Империи. Генетическая замена ~50% предыдущего генофонда, связанного с этрусками, вероятно, была вызвана перемещением рабов и, возможно, солдат, а также большим притоком людей из Восточного Средиземноморья.
Кстати, по однородительским маркерам также наблюдается значительный сдвиг в имперский период.
Если от 800 до 1 года до н. э. гаплогруппы Y-хромосомы на 75% состояли из линий R1b-P312 и её производных R1b-L2, которые распространялись со степными предками и ассоциированы с комплексом колоколовидных кубков, то в первом тысячелетии н. э., частота этой линии снижается примерно до 40% с появлением линий, связанных с Ближним Востоком, таких как J. Здесь стоит отметить, что разнообразие мтДНК, по-видимому, существенно не меняется в течение изученного временного интервала. При этом хотя авторы не могут исключить значительную мобильность женщин, заметный сдвиг в частоте гаплогрупп Y-хромосомы указывает на то, что всё же мобильность мужчин играла важную роль в наблюдаемых генетических изменениях начиная с имперского периода и далее.
В Римской империи гражданство постепенно распространялось на все большее число классов свободных людей, пока эдикт Каракаллы в 212 году не предоставил гражданство всему свободному населению империи, что, вероятно, способствовало ещё большему смешению местного и неместного населения.
Новые данные из Этрурии показывают, что приток ближневосточных предков распространился далеко за пределы столичного региона, и предполагают, что эта более широкая модель перемещения населения, возможно, затронула значительные части Апеннинского полуострова.
Раннее Средневековье
А вот в эпоху раннего Средневековья, 500-1000 гг. н.э., наблюдается дополнительный генетический переход на некоторых бывших территориях Этрурии в результате распространения предков, связанных с Северной Европой.
В моделях примесей этот вклад схож с таковым у людей, связанных с культурой лангобардов, хотя авторы не исключают и другие культурные группы. Таким образом, переселенцы, распространившиеся по большей части Итальянского полуострова после распада Западной Римской империи и создавшие Лангобардское королевство, могли оказать заметное влияние на генетический ландшафт Центральной Италии. При этом, анализ выявляет широкую преемственность населения между ранним Средневековьем и сегодняшним днем в регионах Тосканы, Лацио и Базиликаты, предполагая, что основной генофонд современных итальянцев из Центральной и Южной Италии был в значительной степени сформирован по меньшей мере 1000 лет назад.
Выводы
А в заключение можно сказать, что исследование проливает свет на пять основных аспектов в истории итальянцев:
1. Люди, связанные с этрусской культурой, имели высокую долю степных предков, несмотря на то, что говорили на неиндоевропейском языке. Степное происхождение этрусков могло быть связано с носителями италийских языков бронзового века, возможно, в результате длительного процесса смешения, что привело к частичному языковому сдвигу. Поэтому распространение степной родословной не всегда означает распространение индоевропейских языков.
2. После примеси бронзового века, генофонд, связанный с этрусками, оставался в целом однородным в течение почти 800 лет, несмотря на единичные находки людей ближневосточного, североафриканского и центральноевропейского происхождения.
3. В период Римской империи приток людей из Восточного Средиземноморья привёл к замене значительной части генетического профиля этрусков.
4. В раннее Средневековье дополнительный генетический вклад, связанный с Северной Европой был привнесён германскими племенами.
5. Генетический профиль современных жителей Центральной и Южной Италии в основном был сформировался к концу первого тысячелетия н. э.
И хотя для более чётких обоснований вышеуказанных выводов потребуется более широкий географический анализ древней ДНК по всей Италии, наблюдаемые, очень похожие демографические сдвиги в Тоскане и на севере Лацио, а также Риме и его окрестностях, подразумевают, что исторические события в течение первого тысячелетия н. э. определили крупномасштабные генетические преобразования на обширной части Апеннинского полуострова. Похожие события происходили на Пиренейском полуострове от железного века до наших дней. Не зря упоминались параллели с басками. Это говорит о том, что Римская империя, возможно, внесла длительный демографический вклад в генетический профиль жителей Южной Европы, преодолев разрыв между европейскими и ближневосточными популяциями на генетической карте Западной Евразии.
Источник:
The origin and legacy of the Etruscans through a 2000-year archeogenomic time transect. 2021 Cosimo Posth, Valentina Zaro, Maria A. Spyrou, Stefania Vai, Guido A. Gnecchi-Ruscone, Alessandra Modi, Alexander Peltzer et al. doi.org/10.1126/sciadv.abi7673
Предыдущие генетические исследования показали, что за последние 10 тыс. лет население Европы дважды обновлялось благодаря миграциям.
Начиная с 7-го тысячелетия до н. э. демографические изменения были связаны с расширением неолитических земледельцев из Анатолии. Эти ранненеолитические популяции поначалу генетически сильно отличались от предшествующих европейских охотников-собирателей, но были почти неотличимы от анатолийских земледельцев. Однако со временем, за несколько тысячелетий, доля охотников и собирателей в генофонде европейских земледельцев увеличилась.
Второе крупное демографическое изменение, которому собственно и посвящен выпуск, произошло в начале 3-го тысячелетия до н. э. и было связано со степной родословной, которую несли в том числе и представители культуры шнуровой керамики или боевых топоров. Эта культура представляет собой крупный культурный сдвиг в Центральной, Северной и Северо-Восточной Европе, привнёсший изменения в экономику, идеологию и практику погребения.
Представители культуры шнуровой керамики отличались от своих предшественников в Европе имея ~ 75% родословной, по всему геному, схожей с таковой у представителей ямной культуры из Причерноморско-Каспийской степи. Эта «степная» родословная впоследствии быстро распространилась по всей Европе до конца третьего тысячелетия до н. э.
Несмотря на важность 3 тысячелетия до н. э., остается множество временных и географических пробелов в данных, что приводит к ограниченным знаниям о процессах на уровне обществ и сообществ и о том, как культурные группы взаимодействовали друг с другом и порождали новые.
Кроме того, использование небольшого количества образцов для описания надрегиональных археологических явлений, а также упрощенная культурно-историческая интерпретации этих явлений привели к критике от археологов.
Нерешенные вопросы касаются генетического и географического происхождения представителей культур шнуровой керамики, колоколовидных кубков и унетицкой культуры раннего бронзового века, а также их отношения друг с другом и с ямной культурой.
Так, несмотря на то, что по всему геному представители культуры шнуровой керамики на 75% и более похожи на людей из ямной культуры, у них преимущественно разные линии Y-хромосомы (за исключением нескольких I2), у мужчин шнуровой керамики, в основном R1a, в то время как у мужчин ямной R1b-Z2103. Степное происхождение также присутствует у представителей культуры колоколовидных кубков, однако с другой линией Y-хромосомы – R1b-P312 в отличие от ямной КИО и тем более от культуры шнуровой керамики.
Таким образом, несмотря на их общую степную родословную и перекрывающиеся хронологические интервалы в настоящее время невозможно напрямую связать культуры – ямную, шнуровой керамики и колоколовидных кубков, как отцовские генеалогические источники друг для друга, что особенно важно в свете предполагаемого распространения степных предков по мужской линии и патриархальной системы социального родства в этих трех обществах.
Здесь стоит напомнить, что для определения связей между людьми и археологической культурой исследователи используют маркеры этих культур (например, могильный инвентарь и ориентацию тела), а не генетику. При этом не факт, что люди, жившие в прошлом, объединялись по тем же критериям.
Решающее значение для понимания культурных, социальных и генетических изменений в Европе 3 тысячелетия до н. э. играют густонаселенные регионы, которые свидетельствуют о совместном сосуществовании обществ, относящихся к периоду как до распространения культуры шнуровой керамики, включая культуру шаровидных амфор и баденскую, так и во время её существования, включая культуру колоколовидных кубков и унетицкую культуру раннего бронзового века. В связи с этим, исследователи обратили своё внимание на Богемию – регион в самом сердце Европы и плотно прилегающие к реке Эльбе с плодородными низменностями. Эти земли в западной части современной Чешской Республики, стали свидетелями многих крупных надрегиональных археологических событий.
Плотное аграрное заселение Богемии началось после ~5400 года до н. э. с приходом земледельцев раннего неолита как представители культуры линейно-ленточной керамики, а позже культур накольчатой керамики и лендьель.
Gronenborn / Horejs / Börner / Ober 2021.2 (RGZM / ÖAI)
Им на смену пришли многочисленные общества эпохи энеолита ~4400 - 2200 гг. до н. э., связанные с более чем дюжиной археологических культурных групп, включая йордансмюльскую или йордановскую, михельсбергскую, воронковидных кубков, баденскую, рживначскую, шаровидных амфор, ранний и поздний этапы шнуровой керамики и культуру колоколовидных кубков.
В эпоху энеолита были внедрены важные инновации, такие как металлургия, колесо, повозка, плуг, укрепленные городища и курганы, за ними последовала унетицкая культура раннего бронзового века, географически сосредоточенная вокруг Богемии.
В дополнение к материальным и технологическим изменениям очевидны и идеологические, проявляющиеся в погребальном обряде.
Хотя обычные погребения были относительно распространены в период культуры воронковидных кубков, ~3800-3400 гг. до н. э., (около сотни известных могил в Богемии), они почти исчезают в среднем энеолите ~3500-2800 гг. до н. э. в баденской культуре, рживначской и шаровидных амфор (около двух десятков известных могил в Богемии).
Одиночные могилы, но теперь со строгим разделением по полу в положении тела и элементах погребального инвентаря, вновь появились в изобилии с распространением в регионе культуры шнуровой керамики от ~2900 г. до н. э. (около полутора тысяч известных могил в Богемии).
В период колоколовидных кубков от ~2500 г. до н. э. захоронения в регионе продолжаются, но в меньшем количестве и с отличиями от шнуровой керамики (~600 известных могил в Богемии). С появлением унетицкой культуры, практика одиночных погребений продолжилась, но теперь уже снова без разделения по полу в положении тела (от 4 до 5 тыс. известных захоронений по всей Чехии).
Чтобы лучше понять эти переходы, в новой работе авторы с высоким разрешением проанализировали 206 новых геномов и 65 ранее опубликованных из северной части Богемии.
Основные цели работы:
1. Выяснить, были ли культурные изменения в энеолите и раннем бронзовом веке Центральной Европы вызваны притоком мигрантов.
2. Охарактеризовать центральноевропейское генетическое разнообразие непосредственно перед появление культуры шнуровой керамики.
3. Определить время, когда люди со степной родословной, как у представителей ямной культуры, впервые появились в Центральной Европе, и понять их генетическое происхождение и социальную структуру.
4. Оценить характер и масштабы биологического обмена между условно «местными жителями» и «мигрантами» после появления культуры шнуровой керамики.
5. Выявить социальные преобразования, связанные с генетическими и археологическими изменениями.
Богемия до культуры шнуровой керамики (до ~ 2800 г. до н.э.)
Сразу отмечу, что в работе существуют некоторые фразы, которые уместны в определённом контексте или в рамках конкретной научной работы, как к примеру период "до культуры шнуровой керамики". Понятное дело, что это условный период для конкретных образцов и в историческом смысле эти периоды по-разному называются.
По всему геному жители Богемии до культуры шнуровой керамики на графике анализа главных компонент располагаются между анатолийцами неолита и западноевропейскими охотниками собирателями, но ближе к Анатолии и в непосредственной близости от представителей других центральноевропейских культур того периода.
Это говорит об отсутствии степной родословной. При этом генофонд людей из Богемии до культуры шнуровой керамики в значительной степени может быть смоделирован как двухсторонняя смесь анатолийцев неолита и западноевропейских охотников-собирателей.
После заселения Европы людьми с профилем анатолийских земледельцев отмечен рост генетического компонента как у предшествующих им охотников собирателей Европы. Богемия не оказалась исключением и рост доли охотников-собирателей увеличивается со временем, сначала интенсивно в пятом тысячелетии до н. э., а потом значительно замедляется, почти останавливается.
Новые результаты указывают на два культурных перехода:
Несмотря на то, что культуры йордановская и воронковидных кубков имеют схожее количество предковых компонентов западноевропейских охотников-собирателей, у представителей культуры воронковидных кубков эта примесь произошла с 5079 по 4748 год до н. э., а у людей йордановской культуры эта примесь была позже с 4636 по 4310 год до н. э. При этом данные свидетельствует о том, что представители воронковидных кубков и люди йордановской культуры отличались друг от друга.
У представителей йордановской культуры, профиль охотников и собирателей был ближе к таковому у представителей культуры кёрёш из Венгрии к юго-востоку от Богемии, а у носителей культуры воронковидных кубков этот вклад был ближе к мезолитическому человеку из Лошбура в Люксембурге, как собственно и у представителей этой культуры из Саксонии-Анхальт в Германии. Таким образом данные указывают на то, что культура воронковидных кубков более чем на 50% состояла из неместных жителей, которые в конечном итоге и сменили популяцию йордановской культуры.
2. Переход от рживначской к культуре шаровидных амфор.
Второй подобный случай можно наблюдать при переходе от рживначской культуры к культуре шаровидных амфор. При этом представители шаровидных амфор имеют наибольшее количество предковых компонентов охотников и собирателей среди культурных групп Богемии до шнуровой керамики – 25,7 ± 1,4%. Однако и в данном случае компоненты охотников и собирателей были от разных их представителей. У предшествующей рживначской культуры большинство компонентов охотников-собирателей было ближе к образцам кёрёш из Венгрии, а у последующей культуры шаровидных амфор этот компонент был ближе к человеку из Лошбура в Люксембурге. Оценки дат примеси указывают не на недавнее смешение носителей рживначской культуры с людьми с большей долей охотников и собирателей, а на миграции из регионов, где у людей было больше компонента как у охотников и собирателей Люксембурга, например, с территории современной Польши, что подтверждается археологическими и генетическими данными.
На графике анализа главных компонент представители этих культур также группируются порознь, за исключением одного мальчика 3-5 лет (TUC003), погребенного по традиции рживначской культуры, но генетически похожего на людей из культуры шаровидных амфор.
Примечательно, что у 16 человек из обеих культур, которые хронологически пересекаются с культурой шнуровой керамики не выявлено следов степного происхождения. Степное происхождение в Богемии появляется только у людей из культуры шнуровой керамики в начале 3 тысячелетия до н. э.
Культура шнуровой керамики
В новой работе, помимо прочего, авторы сообщают о самых ранних на сегодняшний день геномах представителей культуры шнуровой керамики, показывающие, что эта культура была широко распространена по всей Богемии уже к 2900 году до н. э. Ранние радиоуглеродные даты, также подтверждаются генетическими профилями этих людей, которые в анализе главных компонент занимают крайние позиции, ближе к ямной. Но, как и ожидалось, со временем, мигранты с востока смешались с местными жителями, что привело к промежуточным результатам у последующих поколений на графике.
Чтобы изучить детали формирования генофонда людей шнуровой керамики Чехии, авторы разделили её представителей на группы ранней и поздней шнуровой керамики Богемии. К ранней отнесли людей со средними датировками > 2600 г. до н. э., а к поздней всех остальных. Стоит учесть, что это разделение действует только в рамках данной работы.
В анализах модель возникновения ранней культуры шнуровой керамики, как смесь любых представителей ямной культуры и людей из культур до её возникновения в регионе и из Польши, Украины, Венгрии или Германии, получила статистически слабую, но поддержку. Однако, при моделировании ранних носителей культуры шнуровой керамики по отдельности как трехкомпонентные смеси людей с генетическим профилем как у представителей анатолийского неолита, западноевропейских охотников-собирателей и ямной культуры Самары, учёные обнаружили, что в 37%, а именно в 10 из 27 случаев, модели не объясняют генетического разнообразия людей из шнуровой керамики. Т.е. кого-то не хватает. Однако, когда в качестве источника добавляется один из компонентов как у людей из среднего неолита Латвии либо неолита Украины или культуры охотников и собирателей эпохи неолита юга Скандинавии – ямочной керамики, в 280 из 285 случаев показатель значимости для такой модели улучшается.
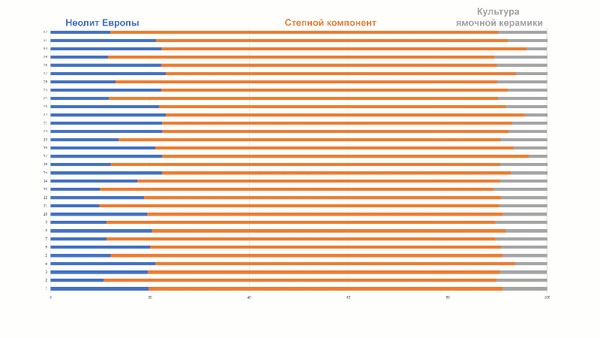
Модели предполагают, что эта родословная составляет от 5 до 15% в генофонде людей Богемии из ранней культуры шнуровой керамики.
Примечательно, что при моделировании генофонда людей из культуры шнуровой керамики Германии и поздней её группы из Богемии, с вышеперечисленными тремя источниками, модели также были ближе к реальности, предполагая, что эта родословная никуда не делась у других центральноевропейских и более поздних носителей культуры.
Кстати здесь уместно вспомнить недавнее исследование представителей локального, восточного варианта культуры шнуровой керамики – фатьяновской культуры. В котором только две популяции, а именно из культуры шаровидных амфор Украины и Польши, а также трипольской культуры Украины, оказались потенциальными источниками для смешения со степными скотоводами с генетическими профилями как у ямной Самары или Калмыкии, для образования генетической структуры популяции фатьяновцев.
Также, помимо вышесказанного, в новой работе среди людей из шнуровой керамики были выявлены 4 женщины вообще без степной родословной, предполагая, что процесс ассимиляции людей, которые жили в регионе до этого был смещен в сторону женщин, что собственно не удивительно. При этом две из 4-х женщин генетически оказались близки к представителям шаровидных амфор из Богемии и Польши, а другие 2 не группируются с какими-либо изученными в этой работе популяциями и скорее всего были из-за пределов Богемии. Помимо этого, как и ожидалось, поздние представители культуры шнуровой керамики отличаются от ранних наличием большего количества энеолитических предков, которые в моделях легко заменяются вышеупомянутыми женщинами без степного происхождения и желательно из-за пределов Богемии.
Но это по всему геному, а что касается гаплогрупп, то с течением времени, наблюдается резкое сокращение разнообразия Y-хромосомы, точнее их сокращение с пяти разных линий у людей из ранней культуры шнуровой керамики Богемии, а именно нескольких линий R1b и гаплогрупп R1a, Q1b2a и I2a1, до преобладающей R1a-M417 (xZ645), у 10 из 11 мужчин позднего периода шнуровой керамики из этого исследования.
Примечательно, что в предыдущих исследованиях из Польши от 2020 года, также были выявлены гаплогруппы R1b-M269 в культуре шнуровой керамики.
Прямое моделирование демографических сценариев продемонстрировало, что наблюдаемое изменение частот гаплогрупп не могло произойти случайно. Результаты показывают, что линия R1a-M417(xZ645) подверглась неслучайному увеличению частоты и у её носителей было на 15,79% (от 4,12 до 44,42%) больше выживших потомков за поколение, чем у мужчин с другими Y-гаплогруппами. При этом данные свидетельствуют о процессе, который непропорционально повлиял на Y-хромосому по сравнению с аутосомным генетическим разнообразием.
Т.е. в раннем периоде, представители культуры шнуровой керамики генетически очень сильно друг от друга отличались, но мужская линия R1a стала преобладающей ещё до того, как люди смешались по всему геному. Наибольшее разнообразие продемонстрировали представители культуры шнуровой керамики раннего периода из чешского Влиневеса, старше 2600 г. до н. э., особенно женская их часть.
Для сравнения, если учесть 3-х женщин без степной родословной, то ни отличались друг от друга сильнее, чем все современные европейские популяции. Или для более наглядного примера как современные сардинцы от финнов, прибалтов, мордвы или русских.
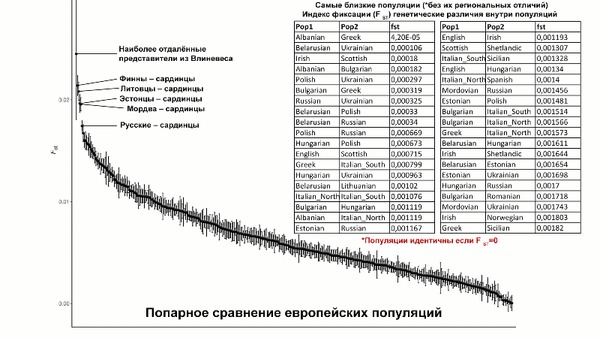
Обратите внимание, что даже мужчины из одной и той же культуры, в пределах одного археологического участка, даже имея одну и ту же линию Y-хромосомы, без её более точных субклад, отличались сильнее друг от друга, чем современные популяции целых стран с разными языками. Поэтому, наличие одного общего предка тысячи лет назад мало на что влияет и когда принадлежность к какой-либо древней линии Y-хромосомы приравнивают к родству, а тем более к этносу, это выглядит совсем неразумно.
Культура колоколовидных кубков
Самые ранние представители культуры колоколовидных кубков Богемии, старше 2400 г. до н. э., на графике анализа главных компонент расположены там же, где и люди из культуры шнуровой керамики, что указывает на некоторую степень генетической преемственности.
Они моделируются как двусторонняя смесь предшествующих культурных групп и их современников. Они скорее всего были местного происхождения, хотя нельзя исключать альтернативные варианты. Здесь авторы подчёркивают, что количество образцов этого периода слишком мало, в выборке они представлены только тремя женщинами.
А вот образцов более позднего периода культуры колоколовидных кубков, младше 2400 г. до н. э., уже 56 и они моделируются как двухсторонняя смесь ранних представителей культуры с людьми с профилем как в среднем энеолите, как у людей из культур баденская, рживначская и шаровидных амфор. И этот вклад составляет около четверти генофонда. При чём наблюдается более тесная филогенетическая связь между линиями Y-хромосомы, обнаруженными у ранних представителей культуры шнуровой керамики, когда их линии были более разнообразны, а преобладала R1b-L151 (6 из 11 образцов или 55%). Эта линия является предковой к R1b-P312, которая преобладала у мужчин культуры колоколовидных кубков Богемии младше 2400 г. до н. э.
Хотя невозможно определить, произошла ли мутация P312 у одного из ранних мужчин культуры шнуровой керамики Богемии с R1b-L151, авторы отмечают, что большинство мужчин культуры колоколовидных кубков региона в дальнейшем происходят от мужчин с R1b-L2 / S116 или R1b1a1a2b1), в отличие от своих коллег по культуре из Англии, некоторые из которых происходят от линии R1b-L21 (R1b1a1a2c1), указывая на то, что английские и богемские мужчины культуры колоколовидных кубков не могут быть потомками друг друга по мужской линии, а скорее развивались параллельно.
Сценарий, по которому R1b-P312, происходит где-то между Богемией и Англией, возможно, в окрестностях Рейна, а потом распространяется на северо-запад и восток, совместим с современным пониманием филогеографии древних линий, происходящих от R1b-L151.
Унетицкая культура
Переход к раннему бронзовому веку в Богемии скорее всего связан с миграциями с северо-востока, при этом модели указывают на большой вклад от людей с генофондом как у ранних представителей культуры колоколовидных кубков этого региона, около 63,5%. Данные по Y-хромосоме предполагают еще большие перемены.
Снижение линий Y-хромосомы R1b-P312 со 100% в позднем периоде культуры колоколовидных кубков до 20% в доклассический период унетицкой культуры подразумевает приток новых линий Y-хромосомы в начале раннего бронзового века. Лучше всего на роль генофонда популяции, которая внесла вклад в представителей доклассического периода унетицкой культуры Богемии подходит таковая из Латвии бронзового века. Модель со смесью компонентов Богемии позднего периода культуры колоколовидных кубков и раннего периода культуры шнуровой керамики с компонентами Латвии бронзового века, поддерживает замену популяции на 47,7%, а также учитывает разнообразие гаплогрупп Y-хромосомы, зафиксированное в доклассический период унетицкой культуры. А именно с R1b-P312 из колоколовидных кубков Богемии позднего периода, R1b-U106 и I2 из Богемии раннего периода культуры шнуровой керамики и R1a-Z645 из Латвии бронзового века.
Хотя географическое происхождение мигрантов не может быть точно определено, несколько подсказок дают ключ к разгадке:
1. Компонент Латвии бронзового века в моделях, предполагает окончательное северо-восточное происхождение.
2. Гаплогруппа Y-хромосомы R1a-Z645, которая впервые появилась в Богемии и в целом в Центральной Европе в начале раннего бронзового века, ранее была зафиксирована у мужчин из культуры шнуровой керамики Скандинавии, указывая на генетический вклад севера или северо-востока.
3. Один из представителей классического периода унетицкой культуры Богемии, из чешского Влиневеса, с гаплогруппой Y-хромосомы R1a-Z645 напоминает людей из Латвии бронзового века, предоставляя прямые доказательства для мигрантов с северо-востока.
Один из представителей классического периода унетицкой культуры Богемии, из чешского Влиневеса, с гаплогруппой Y-хромосомы R1a-Z645 напоминает людей из Латвии бронзового века, предоставляя прямые доказательства для мигрантов с северо-востока.
Однако помимо этого генетический сдвиг также наблюдается и при переходе от доклассического к классическому периоду унетицкой культуры Богемии около 2000 г. до н. э., генофонд её представителей моделируется как смесь более ранних популяций этой культуры доклассического периода с людьми с ещё более ранним энеолитическим профилем, как у культур баденская, рживначская и шаровидных амфор.
Но в отличие от перехода между поздним периодом культуры колоколовидных кубков и доклассическим унетицкой, разнообразие линий Y-хромосомы остается сходным на протяжении обеих фаз, что предполагает ассимиляцию и более тонкие социальные изменения.
Выводы
Новые данные проливают свет на несколько основных процессов до и после появления степных предков. Анализы демонстрируют, что распространение культур воронковидных кубков и шаровидных амфор, а также происхождение унетицкой культуры, повлекло за собой большие генетические сдвиги за короткие промежутки времени, которые могут быть объяснены миграциями.
Также исследование показывает, что ранние представители культуры шнуровой керамики были сильно генетически разнообразными. Одни напоминали людей из культур шаровидных амфор и ямной, а другие выходили за рамки неолита Центральной Европы. Такое разнообразие, вероятно, является результатом объединения людей, происходящих из разных культурных и языковых групп, в археологически похожее, но полиэтническое общество.
Важные факторы этнической идентичности включают происхождение, историю, идеологию и язык, однако различия, включающие в том числе и время до общего предка, среди людей культуры шнуровой керамики, как со степным происхождением, так и без него, подразумевают длительную биологическую изоляцию и, следовательно, различную историю. К примеру, ни люди культуры шаровидных амфор, ни ямной не практиковали сильную гендерную дифференциацию в погребальных обрядах, в отличие от культуры шнуровой керамики. Вполне вероятно, что они и говорили на разных языках. При этом процесс ассимиляции людей без степного происхождения практиковался преимущественно мужчинами из культуры шнуровой керамики, по доброй воле или нет, трудно понять, однако наличие в этой культуре женщин с наибольшим количеством степных предков, предполагает, что они также были хорошо представлены, но могли попасть в их ряды и из близлежащих групп ямной, например, из территорий современной Венгрии.
Стоит отметить, что включение местных жителей в состав мигрантов очень выгодно с практической точки зрения, потому как они обладают полезными знаниями о местности. Археологические данные указывают на преемственность таких знаний, которые, к примеру, проявляются в керамике и инструментах из местного каменного сырья.
Интересно, что на участках Влиневес и Стадице, не наблюдается археологических различий между захоронениями людей в культуре шнуровой керамики как со степным происхождением, так и без него. Что предполагает полную интеграцию генетически и, вероятно, этнически разных людей в рамках одной археологической культуры.
А обнаружение примеси как у людей из среднего неолита Латвии либо неолита Украины или культуры охотников и собирателей эпохи неолита юга Скандинавии в сочетании с отсутствием у мужчин раннего периода культуры шнуровой керамики и ямной общих линий Y-хромосомы, предполагает ограниченную или косвенную роль ямной КИО в происхождении и распространении культуры шнуровой керамики в Центральной Европе, но не отрицает её. Результаты работы в сочетании с некоторыми интерпретациями археологических данных указывают на вклад из лесостепей северо-востока Европы в ранних представителей культуры шнуровой керамики.
Поскольку системы социального родства влияют на модели генетического разнообразия, вполне вероятно, что в 3 тысячелетии до н. э. в Центральной Европе существовало несколько различных систем родства.
Очень разнообразные генетические профили ранних представителей культуры шнуровой керамики, как ядерные, так и Y-хромосомные, предполагают иную социальную организацию по сравнению с поздними её представителями и людьми из культуры колоколовидных кубков, чьи образцы Y-хромосомы указывают на строгую патрилинейность. Это говорит о том, что разные культурные группы, помимо использования различных форм материальной культуры и практики погребения, вероятно, также следовали разным идеологиям, выраженным в их традициях продолжения рода и / или социальной организации.
Это подтверждается обнаружением полностью неперекрывающихся вариаций Y-хромосомы между хронологически пересекающимися представителями позднего периода культуры шнуровой керамики и колоколовидных кубков, что указывает на высокую степень изоляции отцовских линий между этими двумя группами, даже когда они обнаруживаются в одном и том же месте, например, на территории чешского Влиневеса.
Начало доклассического периода унетицкой культуры сопровождалось миграциями с северо-востока и изменением ≥40% ядерной ДНК и ≥80% линий Y-хромосомы, что в конечном итоге привело к отсутствию строгой патрилинейности и разделения по полу в захоронениях как у представителей позднего периода культуры шнуровой керамики и колоколовидных кубков.
Эти события могли отражать связь с Прибалтикой, основным источником янтаря в Богемии раннего бронзового века, до появления янтарного пути, хотя кроме генетики это не было очевидным ни в погребальных обычаях, ни в материальной культуре.
Новы результаты предполагают два основных периода генетического влияния с северо-востока, в ранних периодах культур шнуровой керамики и унетицкой, большая часть этого вклада остается неизученной в европейской археогенетической летописи, например, в Беларуси, как упоминают авторы.
А в целом результаты раскрывают сложную и очень динамичную историю Центральной Европы от неолита до раннего бронзового века, во время которой миграция и перемещение людей способствовали резким генетическим и социальным изменениям.
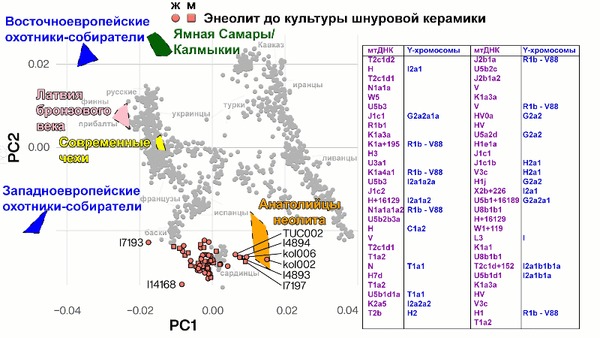
Масштабные миграции с заменой населения происходили в Европе как до, так и после появления степных предков. При этом удалось выяснить, что раннее общество шнуровой керамики было очень разнообразным и возникло на фоне сильного культурного и генетического перехода, в котором участвовали мужчины и женщины различного происхождения, в том числе и этнического.
Несмотря на преемственность в материальной культуре, генетические изменения произошли в обществах культур шнуровой керамики, колоколовидных кубков и унетицкой раннего бронзового века. А культурная принадлежность сыграла важную роль в социальном поведении в 3 тысячелетии до н. э., которое в конечном итоге изменялось со временем и с притоком новых людей.
Также ученые отмечают, что, хотя влияние социальных процессов заметно в моделях генетического разнообразия, необходимы дальнейшие междисциплинарные исследования, чтобы охарактеризовать движущие силы этих изменений, как на микро -, так и на макрорегиональном уровне.
Источник: Dynamic changes in genomic and social structures in third millennium BCE central Europe Science Advances, August 2021 DOI 10.1126/sciadv.abi6941 Luka Papac, Michal Ernée, Miroslav Dobeš, Michaela Langová, Adam B. Rohrlach, Franziska Aron, Gunnar U. Neumann, Maria A. Spyrou, Nadin Rohland et. all
Заселение значительной части острова Великобритания германоязычными племенами из континентальной Северо-Западной Европы, в период с середины 5-го по начало 7-го века н. э., сыграло важную роль в формировании английского языка и в целом Королевства Англии. Поэтому неудивительно, что этот эпизод в истории региона стал предметом значительного количества исследований. Однако несмотря на это сохраняется неопределенность в отношении числа переселенцев и характера их взаимоотношений с ранее существовавшими жителями острова, в частности с романо-бриттами.
Традиционно, до развития современной науки, знания о заселении Британии англами, саксами, ютами и фризами основывались на двух исторических текстах: "Церковной истории народа англов" и "Англосаксонской хронике". Считается, что "Церковная история", написанная Бедой Достопочтенным, была завершена в 731 году н. э. А оригинальная версия Англосаксонской хроники была составлена в конце 9 века н. э., и ее копии обновлялись по крайней мере до середины 12 века н. э. Оба этих документа описывают массовое вторжение и быстрое вытеснение коренного населения, что в последствии было оспорено археологами. Их данные свидетельствуют о том, что изменения, связанные с прибытием германоязычных племён, происходили относительно медленно, что противоречит идее о быстрой замене романо-бриттов. Анализы изотопов кислорода и стронция англосаксов показали, что лишь небольшое их количество происходит из континентальной Европы. В свою очередь анализ полногеномных данных из работы 2016 года показал, что англосаксы были тесно связаны с современными датчанами и голландцами, а их вклад в людей, проживающих сегодня в Восточной Англии, составляет около 38%.
В новой работе при помощи методов геометрической морфометрии авторы решили в процентном соотношении оценить количество англосаксов, чьё происхождение соответствует Северо-Западной Европе и постримскому периоду Великобритании. И в целом пролить свет на масштабы миграции из континентальной Северо-Западной Европы, которая произошла между серединой 5-го и началом 7-го веков н. э.
Для этого учёные использовали методы трехмерного анализа черепов чтобы сравнить образцы из средневековой Англии, а также более раннего периода с таковыми из Дании железного века.
Авторы работы сосредоточились на реперных точках в основании черепов, потому как предыдущие исследования показали, что трехмерная форма этой области черепа может быть очень информативной, почти как ДНК.
Результаты
В описываемой работе, англосаксонский период был разбит на две части, ранний с 410 по 660 гг. и средний с 660 по 889 гг.
Анализ ранних англосаксонских скелетов, показал, что от 67 до 75% людей из англосаксонских погребений, имели континентальное происхождение, как в Северо-Западной Европе. А от 25 до 33%, местное происхождение которое было наследием предыдущих периодов на Британских островах. Однако в среднем англосаксонском периоде картина меняется и уже 50-70% англосаксов, вероятно, имели местное происхождение, в то время, как только от 30 до 50% из них, имели континентальное европейское происхождение. Стоит учесть, что авторы работы решили разделить мужчин и женщин в анализах, а когда для проверки объединили выборки, то полученные результаты были практически идентичны. А стало быть, мужчины и женщины внесли равный вклад.
В этих разделённых, дополнительных анализах 69% предков женщин раннего англосаксонского периода, по оценкам, происходили из территорий современной Дании, а 31% из досредневековой Англии. Однако в среднем периоде уже 52% их предков были из досредневековой Англии, а 48% из Дании.
Тот же анализ для мужчин показал, что в раннем периоде 70% их предков, происходили из Дании, а 30% из досредневековой Англии. Также, как и в случае с женщинами, картина изменилась в среднем англосаксонском периоде, когда 63% предков мужчин происходили из досредневековой Британии, а 37%-из Дании.
При этом ранние исследования ДНК показали, что большинство переселенцев были мужчинами. Было бы хорошо объяснить такое несоответствие.
Ранее для изучения числа мигрантов из Северо-Западной Европы были использованы исторические записи, а также изотопные и генетические анализы. Но, как и упоминалось, исторические записи в "Церковной истории народа англов" и "Англосаксонской хронике", описывают массовое замещение местного на тот момент населения большим количеством германоязычных людей из континентальной Северо-Западной Европы. Правдоподобное объяснение несоответствия между результатами учёных и историческими текстами состоит в том, что последние просто неточны. "Церковная история" и "Англосаксонские хроники" были написаны через несколько столетий после рассматриваемых событий, и поэтому вполне возможно, что их авторы сильно преувеличили число переселенцев. Возможно, что континентальное европейское происхождение было более престижным, чем местное и это побудило большинство поздних англосаксов утверждать, что их предки были из Северо-Западной Европы. Существовало также мнение, что жители средневековья верили в изначальное разделение людей на народы, рода, нации, с общим происхождением и культурой, которые обычно и естественным образом образовывали отдельные политические единицы. Поэтому в их понимании, англосаксы могли быть исключительно потомками германоязычных переселенцев.
Кстати, часто в комментариях встречаются представители схожей точки зрения...)
А что касается несоответствия результатов изотопным исследованиям, которые показали, что лишь немногие англосаксы были выходцами из континентальной Европы, то этому существует несколько потенциальных объяснений.
Анализ изотопов кислорода и стронция, извлеченных из зубов, проливает свет на то, где вырос человек, а не на его происхождение. Таким образом, вполне возможно, что некоторые, если не все, люди, которые считались местными, имели родителей из континентальной Европы, но сами выросли в южной Британии, то есть они были переселенцами во втором поколении. Но также возможно и то, что существовали региональные различия в количестве германоязычных переселенцев. Помимо этого, изотопные исследования могли недооценить число выходцев из континентальной Европы, потому как в нескольких исследованиях были выявлены дополнительные неместные люди в выборках. Предполагалось, что некоторые из них были родом с других Британских островов, а остальные считались неопределенного происхождения.
А вот к последним генетическим данным новые результаты ближе. Но это касается более современных исследований, потому как в ранних работах, основанных преимущественно на гаплогруппах результаты были более размыты. Так в исследовании от 2002 г., было показано, что от 50 до 100% мужчин в Центральной Англии имеют континентальное европейское происхождение (кроме Северного Уэльса). Это же исследование указало на большее количество мужчин-переселенцев чем женщин. Может в этом и есть объяснение несоответствия, упомянутого выше.
Но в более новых работах процент выходцев из материковой Европы в Англии составляет от 10% до 73%, в зависимости от региона. Поэтому в отличие от исторических текстов и изотопных анализов, новые данные не противоречат имеющимся данным ДНК о происхождении англосаксов. Новая оценка того, что от 66 до 75% ранних англосаксов были выходцами из континентальной Северо-Западной Европы, вполне укладывается в диапазон оценок, полученных в ходе исследований ДНК, что подтверждает использование 3D-формы основания черепа в качестве индикатора происхождения захороненных.
Однако новые результаты показывают, что число англосаксов континентального европейского происхождения сократилось примерно с 67% в раннем англосаксонском периоде до примерно 33% в среднем периоде. При этом авторы отмечают, что ранее заметных изменений в относительной численности местных и неместных жителей между этими периодами выявлено не было. Об этом не упоминается в исторических текстах, как собственно и в исследованиях изотопов и ДНК.
Существует несколько потенциальных объяснений такого изменения:
1. С 3-го по 7-й век увеличивалось число местных жителей, которые принимали англосаксонскую идентичность.
2. Когда массовая миграция народов из материковой Европы прекратилась, произошло закономерное увеличение смешанных браков между людьми континентального европейского происхождения и местного. При этом это могли быть потомки переселенцев из Северо-Западной Европы уже не в первом поколении.
3. Возможно, что миграция из материковой Европы все еще продолжалась после 660 года н. э., но со значительно более низкой интенсивностью, чем в предыдущий период.
4. Увеличение доли лиц местного происхождения было следствием того, что они попросту превосходили по численности переселенцев из Северо-Западной Европы.
Определение того, какая из этих гипотез или их комбинаций ближе к действительности, потребует дальнейших исследований.
Но стоит отметить, что неплохо было бы и в данном исследовании объединить антропологические и археологические данные с изотопными и генетическими по тем же образцам. Но будем довольствоваться тем, что есть и ждать продолжения.
А в целом, новое исследование предполагает, что англосаксы Британии, с примкнувшими к ним ютами и фризами, состояли не только из людей родом из континентальной Северо-Западной Европы, но также из многих местных жителей с родословной из досредневековой Англии. При этом доля местных жителей увеличивалась со временем и к среднему англосаксонскому периоду люди с местной родословной уже превосходили людей с континентальной европейской родословной. Возможно, что со временем англосаксонская идентичность была делом добровольным и престижным.
Источник: Plomp KA, Dobney K, Collard M (2021) A 3D basicranial shape-based assessment of local and continental northwest European ancestry among 5th to 9th century CE Anglo-Saxons. PLoS ONE 16(6): e0252477. doi.org/10.1371/journal.pone.0252477