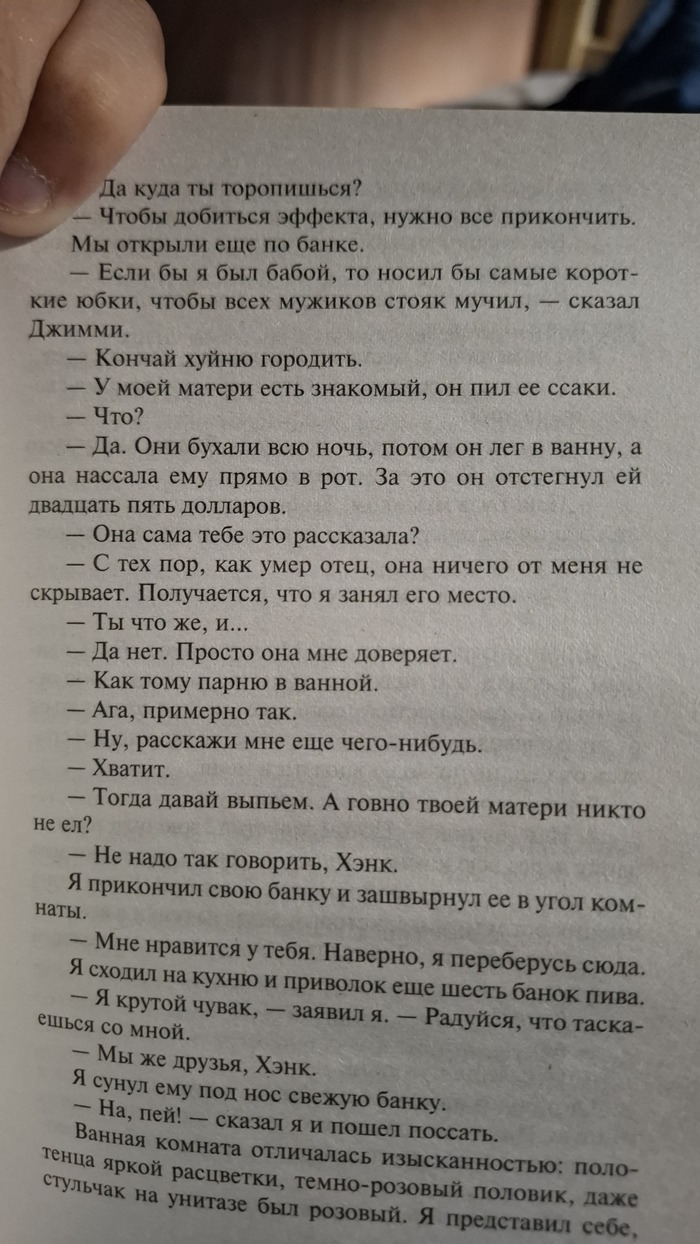Бар «У пропащего ангела» был местом, где время текло вспять. Свет неонового креста над стойкой мерцал, как пульс умирающего, а на стенах, покрытых граффити распятых ангелов и строчками из «Бесов», оседала пыль эпох. Здесь собирались те, кто искал Бога в дне бутылочного стекла, а истину — в трещинах между матерными шутками.
Трое вошли в тот вечер, когда город затянуло пеплом. Есенин, с томиком Шестова в кармане, сел у окна, заклеенного газетной полосой: «Конец света отменён из-за нехватки смысла». Шнур, чья гитара давно стала посохом скитальца, разливал виски в рюмки с трещинами, повторяя: «Пей, пока не превратишься в их заголовок». Буковски, с лицом, напоминающим смятую страницу дневника, молча курил, выдыхая дым кольцами, похожими на нули.
— Берёзы белеют не от невинности, — начал Есенин, вертя пустой стакан. — Они выбелены болью. Каждое кольцо на стволе — это год, который они пытались забыть. Как мы.
Шнур хрипло рассмеялся, указывая на граффити с ангелом, режущим вены обломком звезды:
— Твои берёзы — как этот урод. Красиво снаружи, а внутри — гниль. Ты пишешь про белизну, а сам нутром чувствуешь: всё, что мы создаём, — это надгробные эпитафии для самих себя.
— Надгробия? — Буковски впервые поднял глаза. — Нет. Мы роем могилы, чтобы спрятать в них зеркала. Смотришь в яму — а там твоё лицо. И ты копаешь глубже, пока не упрёшься в ядро Земли. А там — пустота.
Есенин ударил кулаком по столу. Селёдка в тарелке дёрнулась, как последний нерв:
— Пустота — это не конец! Это начало. Когда Хайдеггер говорил о «Бытии-к-смерти», он не звал сжечь книги. Он звал найти в страхе свободу!
— Свобода? — Шнур плюхнулся на стул, задев гитару. Струна лопнула, издав звук расстрелянного аккорда. — Вчера ко мне подошёл парень: «Ваши песни изменили мою жизнь!». А я спросил: «И что? Ты сменил работу? Вышел на митинг?». Он ответил: «Нет. Я выучил текст наизусть». — Шнур выпил рюмку. — Мы не меняем мир. Мы — пластырь на гангрене.
Буковски поднял стакан, разглядывая сквозь мутное стекло очертания Есенина:
— Ты похож на моего отца. Он верил, что если читать Пушкина детям, они вырастут добрыми. А выросли воровать деньги. Поэзия не спасает. Она — крик в вакууме. Ты кричишь «любовь», а эхо возвращается: «одиночество», «предательство», «смерть».
— Но мы продолжаем кричать! — Есенин вскочил, опрокинув стул. — Иначе зачем эти… — Он махнул рукой на граффити с цитатой Камю: «Бунт — единственное достоинство раба». — Зачем бунт, если всё бессмысленно?
— Чтобы не сойти с ума, — Буковски достал из кармана смятый листок. Там было написано: «Бог умер. Подпись: Ницше». — Мы все играем в театр абсурда. Ты — трагик, Шнур — клоун, я — зритель, который шикает на обоих.
Шнур засмеялся, наливая виски в треснувший стакан:
— Зритель? Ты — суфлёр. Шепчешь нам: «Скажите, что всё тленно!». А потом пишешь в блокнот: «Они всё ещё верят в диалог».
Разговор прервал треск. На стене, где ангел с оторванными крыльями обнимал чёрное солнце, поползла трещина. Пламя от опрокинутой свечи лизнуло пропитанный алкоголем пол. Огонь пополз к стойке, поглощая мебель,старые афиши, обрывки стихов.....
— Гори, — пробормотал Есенин, глядя, как огонь пожирает его томик. — Может, пепел удобрит почву для новых берёз.
Шнур швырнул в пламя гитару. Дека взорвалась искрами:
— Финал без аплодисментов. Как и положено.
Буковски разжал ладонь. В ней лежал берёзовый лист, принесённый ветром в дыру окна.
— Белый… — прошептал он и бросил лист в огонь.
Утром бар напоминал античную руину. Среди пепла нашли три вещи:
1. Обгоревший крестик на расплавленной цепочке.
2. Медную табличку с надписью: «Здесь пытались родить смысл. Родили пепел».
3. Недопитую бутылку виски, где на этикетке кто-то вывел:
«Мы — искры в поисках костра. Даже если он сожжёт нас дотла».
Говорят, троих мужчин видели на пустынной станции. Они молча ждали поезда, а когда тот тронулся, Есенин бросил в окно горсть пепла. Ветер подхватил его, смешав с дождём, который стирал границы между прошлым и будущим.
АНАНС! Вечером или Ночью этот же текст,но в стиле :От которого вы или блеванете,либо получите подсознательное удовлетворение!