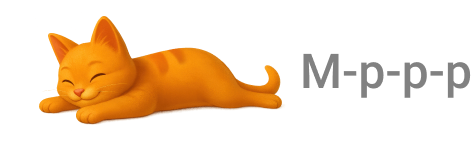Это отчим настоял, чтобы я устроился на работу. Даже пусть на неполный рабочий день, говорил он, это всё-таки лучше, чем сгнить в своей комнате. Я бы с огромным удовольствием провёл последнее лето перед восемнадцатилетием именно так, но, увы, вариант не прокатил. В тот жаркий день я стоял у тесного входа в единственный супермаркет нашего городка и разглядывал прикреплённые к доске объявления «требуются сотрудники». Глянув на безжизненные лица кассиров напротив, я тут же передумал связываться с розницей. Пробегая глазами список, я наконец наткнулся на предложение, которое меня зацепило.
«Друзья пожилых» — небольшая местная благотворительная организация при нашем доме престарелых. Волонтёра закрепляли за пенсионером, у которого почти не осталось родных или друзей. Раз в неделю ты приходил к нему и проводил час-другой в компании. Платили, конечно, ноль, но и работой это толком не называлось, а главное — всё лето оставалось фактически свободным. Это явно не то, что представлял себе отчим, но я бы посмотрел, как он попытается отговорить меня от такой благой затеи в присутствии мамы. Я оторвал бумажную полоску с номером телефона и покатил домой на велосипеде.
После короткого звонка я заглянул в дом престарелых, поговорил с добродушным организатором, а потом мы общались уже по электронной почте. В начале июня меня окончательно распределили к милой старушке по имени Агата. Она жила одна в сыром домике на окраине, неподалёку от дома моего приятеля. Отчим сдержанно гордился тем, что я нашёл «такую полезную работу», и даже оплатил мне первый автобус. Вспомнив указания из дома престарелых, я вышел как раз перед её подъездной дорожкой. Два потемневших мраморных коня венчали каменные столбы у кованых ворот, ограждавших участок. Большую часть земли занимали деревья, и только стена подсказывала, где заканчиваются владения Агаты и начинается лес.
Я толкнул тяжёлую железную калитку — она заскрипела, будто ржавые шестерёнки. Проскочив в узкую щель, я зашагал по разбитой дорожке. Газон превратился в джунгли из бурьяна и выброшенной мебели. Казалось, до выкрашенной в выцветший голубой двери я шёл полвечности, но всё же постучал, а для верности нажал на звонок. Изнутри донёсся приглушённый голос — наверно, «иду, иду», — и вскоре дверь распахнулась. На пороге стояла дряхлая старуха; я улыбнулся:
Она взяла меня за руку и провела внутрь. В доме пахло пылью и хересом; обстановка сразу напомнила визиты к уже покойным бабушке с дедом. Едва мы закрыли дверь, Агата принялась угощать всем — от сладкого молока до шортбреда — и усадила меня на древний диван в гостиной.
В глазах Агаты светилась чистая доброта, там не было и тени злобы. Она смотрела на меня, как на родного сына, и где-то посередине нашей беседы я вдруг понял, что, возможно, именно за сына она меня и принимает. Мы болтали о школе, о том, есть ли у меня девушка. Я отвечал без труда — ведь мое дело было составить ей компанию. Когда же я спросил о ней самой, она удивилась, но откровенно рассказала:
— Тяжко без моего Штрауса, — сказала она, кладя костлявую ладонь мне на плечо. — Так одиноко бывает. Есть ещё тётка из госпиталя, приходит пару раз в неделю, но сплошная зануда!
Агата запрокинула голову и хрипло расхохоталась.
— Всё твердит, что мне можно, что нельзя: «Пейте таблетки, не выходите на улицу». Чёрт бы побрал, словно я дитя малое!
Она вздохнула, уголки тонких губ дрогнули:
— Но теперь у меня есть ты, и больше ничего не важно.
Я тепло улыбнулся: действительно, эта «работа» могла оказаться невероятно душевной. Пусть на лбу Агаты вздулся страшный варикозный узел, а голос скрипел, как старый радиатор, я уже видел, как провожу с ней половину лета. Я хотел было сказать, что навещу её, когда угодно, но она со скрипом поднялась, чтоб заварить чай. Я остался в гостиной и огляделся.
Комната была как музей: фарфоровые фигурки, старые снимки, хрусталь, банки с шариками, урна, игрушечные и чучела животных — всего не счесть. В стеклянном кубе — странный белый капюшон. Я взял с камина фотографию: солдат с давно мёртвым взглядом. Наверное, Штраус? Слышно было шарканье тапок — Агата вернулась с кружкой чая и горстью печенья. Я показал ей портрет.
Она надела очки с толстыми, как иллюминаторы, линзами, всмотрелась и, наконец, ахнула:
— Это Зоран, старший брат моего Штрауса. Вторая мировая…
Меня вдруг осенила мысль:
Агата поняла недосказанный вопрос и нахмурилась:
— Что ты, нет! Зоран был… — она потеряла мысль, потом снова заговорила, и поток слов казался бесконечным.
— Мой Штраус приехал в Америку мальчишкой, в начале той ужасной войны. Пожаловали они с матерью — и она вскоре умерла от чахотки. Моя семья приютила его, выучила английскому. Он работал на нашей ферме всё детство и часть юности. А я, хоть зелёная была, знала, что такое любовь. Полюбила Штрауса, но отец был против. Держал его в сарае, будто скотину…
Она уселась удобнее, а я приготовился слушать долгую историю жизни.
— Мы сбежали в сорок девятом. Кража — грех, но мы вынуждены были взять у отца деньги. На них и начали новую жизнь на Севере. Добрались до вашего нынешнего городка; тогда он удвоился за четыре года. На фоне людского потока мы затерялись. Причина роста — новый завод: правительство построило, чтобы выпускать всякие «микстуры». Работы было невпроворот, и мой Штраус устроился туда. Мы осели, пытались завести детей. Всё шло как по маслу до пятьдесят четвёртого.
Она умолкла и долго смотрела на белый капюшон в витрине. Я мягко коснулся её руки:
— Что случилось в 1954-м?
— Пожар на заводе, — произнесла она, будто читала траурный стих. — Погибли почти все парни, но мне повезло — Штраус выжил. Только был он страшно обгоревший, химический пожар. Начальство ещё пыталось свалить вину на рабочих…
— Мне так жаль, — выдавил я.
— Удивляюсь, что ты не знаешь. Чего вас в школе учат? Никому нет дела до местной истории, — проворчала она, потом спохватилась: — Да, да.
Она поднялась, подошла к полке с урной мужа и стеклянным шкафчиком.
Я вспомнил, как ради симпатии к одной девчонке, Лейле, посмотрел «Человека-слона». И вот маска в шкафчике живо напомнила ту — белая ткань, пожелтевшая от времени, с двумя овальными прорезями.
— После выздоровления Штраус стал сторожем в школе. Носил маску, чтоб дети не дразнили. Детки бывают жестоки… — сказала она, глядя на урну. — В какую школу ты ходишь?
Я назвал и увидел улыбку: та самая, где он проработал тридцать лет. Она рассказала, как он умер в шестьдесят один от агрессивной лимфомы. В её глазах жила свежая боль, будто смерть случилась вчера. Я посмотрел на часы — пробыл дольше положенного. Встав, извинился:
— Я приду в то же время на следующей неделе.
— Уже уходишь? — вздохнула Агата.
Она довела меня до двери, трясла руку, благодарила за визит. Перед тем как я шагнул прочь, она вновь схватила меня за запястье:
— Югославия… Зоран тогда был партизаном, — прошептала она.
Я кивнул, улыбнулся и пошёл по её извилистой дорожке меж бурьяна и ржавого хлама. Успел на автобус домой как раз к ужину.
— Как там с ведьмой? — спросил отец, жуя жареную птичью ножку.
— Не смей так, — отрезал я. — Она чудесная. Полдня рассказывала о своём Штраусе.
— Штраус? — отец оживился. — Тот самый Шрам-Штраус?
— Похоже. Откуда ты его знаешь?
— Сторож в моей школе. Пугало детишек. Если кто прыгал в его листья, задирал маску и так глядел… мигом расходились.
Меня не удивило, что отец был тем самым жестоким ребёнком. Я сменил тему.
Свидание с Лейлой прошло отлично: пустое поле, дым, остатки ярмарки. Она пускала кольца, я кашлял, мы болтали о всё и о ничём; она поделилась, как потеряла родителей, как дядя спился. Я лишь слушал и повторял: «Мне так жаль». Когда она, оставив на щеке фиолетовый след губной помады, поцеловала на прощание, я понял, что пропал.
В субботу я снова ехал к Агате. Автобус у нас один и тот нерегулярный, но тогда опоздал не слишком, и я практически вовремя стоял у ворот. Пройдя пол-дороги к дому, услышал позади рычание. Обернулся — овчарка оскалилась. Горячая слюна шлёпалась на плитку. Пса я не боялся, но отступил. Тут распахнулась дверь, и собака скрылась в бурьяне, а Агата приветливо махнула мне.
Она холодными сухими руками сжала мою:
— Здравствуй, дорогой. Ты, должно быть, сын Эдварда. Проходи, проходи.
— Агата, я Норман, был у вас на прошлой неделе, — напомнил я.
Она замерла у лестницы, бормоча: «нет, нет…» Потом подняла железный взгляд:
— Я покажу тебе дом, — сказала и пошла наверх.
Я последовал. На втором этаже пахло плесенью. Стены в фотографиях предков, полки — в древних безделушках.
— Мой Штраус обожал антиквариат, — провела она жилищную экскурсию. — Это гостевая, здесь будешь спать ты. — Я хотел возразить, но промолчал. — А тут спальня Штрауса. Господи, как он храпел!
Мы дошли до её комнаты. В круглое окно коридора виднелся лес. Над головой — люк на чердак.
— Там один асбест, не вздумай лезть, — предупредила она и спустилась варить чай.
Я был на середине лестницы, когда где-то наверху глухо бухнуло. Прислушался — тишина. Агата позвала, и я пошёл в гостиную. Мы проговорили часы: она пересказывала старинные местные скандалы, тайные романы, чуть ли не дьявольские сделки. Я едва успел на автобус, сходив ещё в ванную. Спускаясь, заметил: люк чердака открыт и покачивается. Решил, что сломалась защёлка, и не придал значения. Если б я сказал — может, она бы не умерла так, как умерла.
Третья неделя: я приехал на велосипеде, ноги горели, а в доме ощущалась иная, тяжёлая тишина. На зов вышла сиделка — худая британка, — сказала, Агате хуже, она в постели. Я вошёл: таблетки грудами, стаканы с водой и соком. Агата открыла мутные глаза, улыбнулась:
— Чудесно себя чувствую, милый. Мой Штраус вернулся прошлой ночью.
Я с трудом скрывал гримасу.
— Мы всю ночь болтали, как раньше. Он в своей комнате, познакомьтесь, — весело добавила она.
Сиделка принесла чай, велела ей пить таблетки и спать, потом вывела меня в коридор:
— Вы молодец, но ей нужен покой. Идите домой.
Я кивнул. Проходя мимо комнаты Штрауса, заметил приоткрытую дверь.
Та неделя была лучшей: Лейла осталась без работы, мы не расставались. В пятницу она спросила, свободен ли я завтра.
— Большую часть дня буду у Агаты… — вздохнул я.
— А хочешь пойти со мной?
В субботу мы шли к дому вдвоём. Агата выглядела бледной, но, увидев гостью, оживилась. Пока они болтали, я решил прибраться на участке. Старушка выдала ржавый ключ от сарая. Позади дома среди гравия стоял сгнивший автомобиль, рядом — покосившийся сарай. Замок рассыпался, едва я провернул ключ. Дверь открылась — в нос ударил запах смерти: раздавленный енот. Я сгрёб лопатой останки за забор, перекрестился, вытащил ручную косилку и пошёл на фронт-ярд. Перемещая ржавые детали стиралок и двигателей, чувствовал себя археологом.
Косилка заедала каждые полминуты, корзина забивалась мгновенно. Солнце уже клонилось к вечеру, иначе я бы свалился. Часа через два всё-таки выкошено было лишь пятно. Вернулся и увидел ту же овчарку: она сидела у кромки леса и будто оценивала мою работу. Наконец Лейла вышла с соком:
— Ты кусок пропустил, — поддела она.
Я захлебнулся, сок брызнул носом, мы смеялись.
— Хорошая, но… разговорчивая. Любимый фильм «Мэри Поппинс» — уважаю, — сказала Лейла.
Мне стало тепло: у меня никогда не было бабушек — Агата могла бы ей стать. Я решил приезжать и после лета. Закончив, я вернул косилку в сарай и зашёл в дом. Мы поболтали, и Лейла сказала, что пора. По дороге к остановке я снова спросил мнение.
— Она милая. Напоминает мою бабушку, — сказала Лейла. — А Штраус… интересный.
— Рассказывала житие? — усмехнулся я.
— Увы, Альцгеймер. Страшная болезнь.
Мы притихли. Фонари мигнули, небо темнело.
— Он был неразговорчив… — вдруг сказала Лейла.
— Штраус. Он спустился по лестнице, пока мы с ней сидели. Она подошла, но я ничего не слышала, видела только его ноги.
У меня похолодело внутри. Агата говорила, что муж вернулся — и вот это. Значит, кто-то из родственников поселился у неё, а она решила, что это Штраус. Мысль пугала: даже память о супруге рассыпается.
— Сиделку видела сегодня? — спросил я.
— Джорджию? Нет. Агата сказала, что та не появлялась дней шесть-семь.
— Чёрт побери! — вскрикнул я. — Как можно бросить её одну? Она же неделю назад не вставала!
— Я вернусь к ней. Проверю, что происходит.
— У меня нет комендантского часа.
Мы пошли обратно. Мир окрасился в вечернюю синь. У ворот я распахнул скрипучую калитку. Атмосфера сгущалась. Из травы выскочила овчарка, но, узнав нас, доверчиво потёрлась. Лейла пошутила про бешенство, и я отдёрнул руку. Собака последовала за нами до крыльца и осталась снаружи. Я постучал — тишина. Было уже темно, Агата вряд ли не спала. Подняв потрескавшегося гнома, я достал ключ и вошёл.
Дом ночью казался заброшенным десятилетиями. Лейла собиралась на лестницу, но я свернул в гостиную. Витрина с маской была пуста.
— Что случилось? — Лейла подкралась, я подпрыгнул.
— Разве не должен? Я уверена, днём он был пустой, — сказала она.
Мы поднялись к комнате Агаты. Я тихо постучал — ответа нет. Чувствуя, что надо проверить, приоткрыл дверь; Лейла щёлкнула выключателем — Агата в ужасе села.
— Это я, Норман. Простите, что поздно, — успокаивал я.
Агата перевела взгляд на Лейлу:
— Хотел убедиться, что с вами всё хорошо. Сиделка же пропала.
— Мне больше не нужна Джорджия, Штраус вернулся! — прошептала она.
— В какой он комнате? — спросил я, хотя знал ответ.
Я вышел, прошёл короткий коридор. Дверь была приоткрыта. Постучал — тишина. Толкнул. Поток мух вырвался наружу. Вонь ударила мгновенно. На кровати, спиной ко мне, сидела фигура в тёмном пальто и белой от мертвенной бледности коже головы. На ней — тот самый капюшон. Я едва не вывернулся от смрада — горячие испражнения, падаль. В полумраке увидел горшки и чашки, доверху наполненные густой алой жидкостью. Фигура поднялась; я бросился к Агате.
— Уходим! — схватил Лейлу. — Агата, идём.
Старушка свесила ноги, но не шевельнулась:
— Зачем же? — тихо улыбнулась.
Признаюсь: я любил её, как родную, но она жила с этим существом, возможно, недели, и ей не причинили вреда. Я увёл Лейлу.
В коридоре фигура уже ждала. Маска плотно натянута, глазницы — чёрные дыры. Длинное пальто, ноги в нескольких сантиметрах от пола. Она бросилась, как хищник, и вмиг сжала Лейле горло, прижав к стене. Я видел, как из её глаз погас свет.
Я метнулся в спальню, захлопнул дверь — без толку: чудовище ворвалось. Я покачнулся, уткнувшись в книжный шкаф. Агата встала между нами, обхватила его лицо ладонями:
— О, Штраус, любовь моя… — шептала.
Она подняла маску — как делала сотни раз. В следующее мгновение вытянулась:
Существо ухватило её за голову и впилось пожухлыми клыками в шею. Жадно хлебнуло кровь и уронило тело. Затем обратилось ко мне. Единственный выход — окно. Я распахнул его и выпрыгнул.
Лодыжка треснула, кости разлетелись, будто пазл. Каждый шаг — вспышка боли, я то вставал, то падал на колени и ладони, полз к переднему двору. За спиной услышал мягкий приземляющийся звук — тварь спрыгнула. Я рухнул на траву, и оно нависло надо мной.
Только теперь я ясно разглядел лицо: кожа белее маски, глазницы заполнила чёрная тягучая жижа, оторванный нерв болтался; нос и уши словно разъела проказа, губ не осталось, зубы — обломки стекла, кроме целых верхних клыков. Оно жаждало ещё крови.
Овчарка зарычала и прыгнула. Масса пса сбила тварь с ног, я пополз к заросшей части газона. Ржавая пружина старого матраса зацепила карман, высыпав мусор, но я успел обернуться: пёс выгрызал нижнюю челюсть монстру.
Взвалившись на мотыгу, найденную под травой, я позвонил 911, прохрипел адрес. Шёлки в ушах звенели: любое слово казалось сиреной. Схватив мотыгу, я ковылял к дороге; за спиной — вой пса и нечеловеческие вопли.
На улице я услышал топот — существо неслось, как спринтер, оставляя на асфальте слизистый след. Оно прыгнуло, но я выставил мотыгу: гнилое древко сломалось, зазубренный конец вонзился в грудь. Чудовище отшатнулось, но поднялось. Я всхлипнул, прижал обломок к себе, острие наружу.
Вдруг из его головы брызнула чёрная масса — первый выстрел. Полицейские один за другим поливали дробью, пока тело не обмякло. Офицер-женщина вытащила меня из-за стены. Дальше всё расплылось. Помню лишь разговор в машине: она рассказала о Хэллоуине прошлого года, когда, по слухам, учитель воскресной школы убил двух парней, а потом себя. Она была первой на месте и увидела не сумасшедшего фанатика, а это же чудовище. Оно вырвалось тогда, а потом притворялось покойным мужем старушки…
Больше страшных историй читай в нашем ТГ канале https://t.me/bayki_reddit