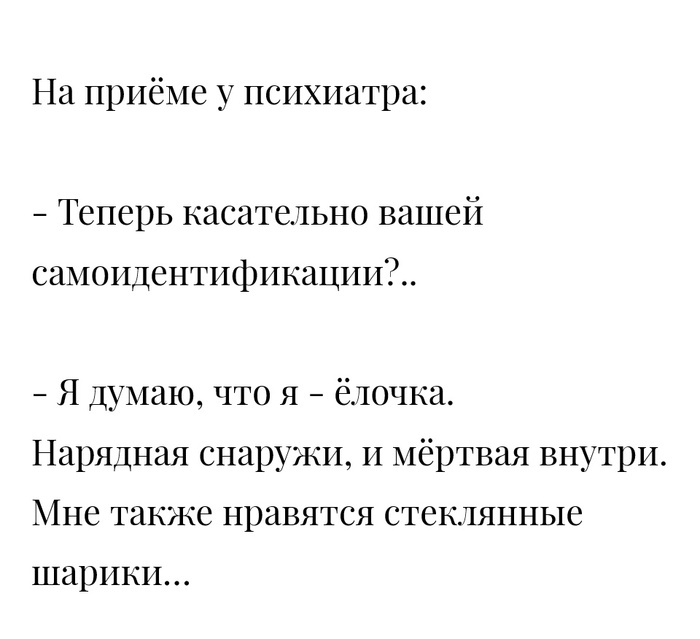Добро пожаловать в метавселенную. Вы больше не нужны
Представляю вашему вниманию эссе моего друга.
Публикую с его разрешения.
--------------------------
В XXI веке человечество стоит на пороге глубокой трансформации как своей жизни, так и сущности в целом. Исчезают привычные, в том числе и многовековые традиционные постулаты, которые ранее считались приемлемыми и культивируемыми. Пересматриваются основные человеческие настройки, что делают человека – человеком. Развитие техники и технологий открывает перед ним новый антропологический поворот, где он все больше существует в гибридной реальности. Меняются не только методы исследования, включающие и цифровые способы, но и само понимание человека, где искусственный интеллект становится своеобразным посредником в восприятии реальности. Одна из характеристик этого поворота - появление виртуального пространства, которое настолько встраивается в повседневность и ее события, что практически сливается с реальным миром. С появлением сети Интернет и ее последующим развитием, закономерно возникает кризис человеческой идентичности. Понимание человека как целостного и универсального существа становится раздробленным, нечетким: несоответствие реального образа и картины индивида и его идеальным, «виртуальным», вариантом можно наблюдать в современном цифровом пространстве повсеместно. Люди демонстрируют «идеальную жизнь», которая на самом деле может не соответствовать реальности. Термин «виртуальный», ранее применимый лишь к компьютерной сфере (в начале информационной эры он отождествлялся с компьютером, хотя и в более ранние эпохи был в обороте), в наше время начинает экспансию на широкий пласт человеческого общества, выходя за рамки типичной информатики и компьютерной науки. Сегодня субъективность и самосознание человека начинают свой переход в совершенно новое поле, с которым раннее не сталкивалось научное знание, соответственно формируется новый способ существования человека, выраженный в цифровых алгоритмах и программных компонентах. По моему глубокому убеждению, с течением времени границы между различными реальностями неизбежно перестанут существовать, что делает виртуальную реальность объектом анализа и изучения, требующим философского знания.
История философии показывает, что виртуальность как таковая учеными и философами стала использоваться совсем недавно. Интересно разобраться в понятии «виртуальный», и почему его стали использовать в таком контексте? Слово имеет своеобразную этимологию, поскольку в переводе с латинского слово virtus, то есть «храбрость», «мужество», этимологически связано со словом vir, что означает «мужчина». Уже во времена средневековой схоластики это понятие стало использоваться как «возможность» и «способность к существованию». При переводе на латынь древнегреческих философских текстов, слово ἀρετή (добродетель, доброкачественность) переводилось латинским словом virtus (добродетель, мужество). Через учение Платона об арете-эйдосе, латинское понятие virtus, а затем и понятие виртуальный, оказались связанными с платоновскими смыслами понятия εἶδος, а следовательно, и с учением Платона о трех типах образов. Различное понимание термина безусловно связано с историческим прогрессом человечества и углублением его научного знания. Философия, являясь квинтэссенцией эпохи, приобретает некоторые особенности, характерные для своего времени. Виртуальное, таким образом, можно трактовать, с одной стороны, как нечто несуществующее, а с другой – нечто потенциальное и способное к возникновению. В связи с этим, до начала информационной эпохи виртуальным назывался такой предмет, который в реальности не существует, однако тот, который имеет возможность его возникновения при определенных условиях. Хотя сам концепт виртуализации реальности стал известен еще в 50-х годах прошлого века, в привычном понимании этот термин впервые использовал американский изобретатель и писатель Джарон Ланьер в 1980-х годах. Будучи основателем компании VPL Research, он занимался созданием и разработкой технологий VR, включая создание коммерческих шлемов присутствия.
Виртуальность вошла в философский дискурс еще несколько десятилетий назад. В современности эта тема является одной из ключевых повесток не только у ученых, но и писателей-фантастов и приверженцев теорий заговора. Наиболее полно она была выражена во взглядах французского философа-постмодерниста Жана Бодрийяра. Началом его карьеры послужили переводы работ Маркса, поэтому прослеживается некоторое влияние марксистской теории на его философию. Он разрабатывает свой взгляд и вводит термин «гиперреальность», который является по своему содержанию своеобразным продолжением марксистской «надстройки», и «симулякр» как единицу этого термина. Развитые постиндустриальные общества и современное мироустройство Бодрийяр называет эпохой гиперреальности ту, где граница между оригиналом и копией угасает. Сами по себе, симулякры (от лат. – притворяться) – это определенные фантомные знаки, которые не отражают никакой объективной реальности.
Симулякры в истории не новый феномен. Их возникновение рождается еще в античности, когда труды Платона переводили на латинский язык. Немного затронув тему этимологии снова, отмечу, что впервые просочилось использование слова simulacrum, что означало копию, подобие, в переводе с латинского. С другой точки зрения, сам Платон ввел понятие симулякра, а точнее сходное, родственное к нему «эйдон» и «эйдолон» (то самое учение о трех типах образов Платона – эйдос, эйкон и эйдолон). В отличие от эйдосов, эйконы и эйдолоны имеют предшествующий им оригинал, при этом, как уже было сказано, эйкон является подлинным подобием эйдоса, а эйдолон – призрачным. В диалоге «Софист» Платон рассматривает два вида искусства подражания, или изобразительного искусства, в результате применения которых создаются эти типы образов. Идея причастности Платона к формированию постмодернистского симулякра высказал Жиль Делез. В то время как Платон рассматривал симулякр как копию, которая не соответствует оригиналу, Ж. Делез полагал, что он является копией того, что не существует в действительности. Такое определение развивал далее в своих трудах Бодрийяр в призме гиперреальности.
Французский философ также выделяет и ступени их развития, где важным является формирование так называемым симулякром своего собственного бытия. Если на первой стадии копия является отражением объективной реальности (например, фотография) то на конечной стадии симулякр полностью перестает быть знаком как таковым. Разумеется, симулякры Бодрийяра, в особенности теоретизированные в работе «Симулякры и симуляция» (1981), еще не застали стремительного развития виртуальных технологий (хотя сам Бодрийяр продолжал свою деятельность до 2000-х годов, теория симулякров появилась на свет несколько раньше), однако уже тогда он заметил тенденцию к постепенной «виртуализации» человеческого общества. Наше время – эпоха апогея развития симулякров, где главным звеном выступает сам факт создания виртуальной вселенной. Симуляции объектов приводят к искаженному пониманию вещей у человека, создавая ложный образ о том или ином событии и человеке. Фильмы о войне, любви, дружбе формируют у людей представления об этих явлениях, которые часто не соответствуют реальному опыту. Мы ожидаем, что любовь будет как в типичных романтических комедиях, а война - как в боевиках, но реальность оказывается довольно непредсказуема. Люди покупают не просто одежду, а определённый «символический капитал», бренды продвигают не просто свой продукт, а определенную скрытую идею успеха, молодости и т.п. Отсюда логично вытекает потеря чувства восприятия и кризис самоидентичности, так как, имея измененное, зачастую – ложное, представление о реальности, человек формирует личность посредством символов и знаков, у индивида исчезает прямое отношение к объективной реальности. Субъективность становится не «внутренним переживанием», а отражением симуляций. В связи с этим возникает ряд вопросов: «Может ли человек быть "самим собой" в мире, где идентичность – это набор образов?», «Как понять, что твои желания – твои, а не результат культурного программирования?». Из кризиса субъективного вытекают и другие проблемы философской антропологии, однако в этой работе я сделаю акцент именно на анализе виртуальности. Теория симулякров, несомненно, наталкивает на мысль, что человек переступает на новый способ существования, где цифровой мир выступает как главный источник изменений человеческой природы. Подобная бытийственность переосмысляет вопросы о границах реального, создает новые способы познания и взаимодействия. В таком понимании метавселенная становится новой онтологической формой, которая переосмысляет само понятие бытия.
С другой стороны, философскую проблематику виртуального мира развивает израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари. Он предполагает, что в XXI веке человек займется «апгрейдом» самого себя, стремясь превзойти биологические ограничения. Технологии генной инженерии, искусственного интеллекта и биотехнологий могут привести к появлению постчеловеческих существ - Homo Deus, людей-богов, обладающих огромными интеллектуальными и физическими возможностями. Однако с этим приходят и новые риски. Если раньше религии и идеологии формировали смысл жизни, то в будущем этот смысл может быть делегирован алгоритмам и цифровым системам, что поставит под вопрос свободу воли и традиционные представления о личности. Сама идея человекобога, о которой говорит нам Ю.Н. Харари, известна нам еще с эпохи Возрождения. Именно там рождаются гуманистические идеалы и возврат к антропоцентризму. В XXI веке копание «вглубь» человека достигает наивысшей точки. По моему мнению, причиной могут быть как кардинальные преобразования мира, включая довольно высокий уровень глобализации человечества, так и относительную стабильность в мировом пространстве. Цивилизованный мир сегодня не подвержен серьезным катаклизмам. Мы живем в такое время, когда их возникновение сведено к минимуму, что является важной предпосылкой для формирования новых устремлений не только для философии и антропологии, но и социально-гуманитарных наук в целом.
Довольно примечательным было бы упоминание Карла Маркса и его концепции отчуждения. Проблему Маркс выделяет в контексте капиталистического общества и его отношения к труду, однако в цифровом мире она приобретает более изощренную форму. Как известно, немецкий философ выделяет четыре формы отчуждения, нас будут интересовать лишь две (хотя нельзя не согласиться, что проблема отчуждения сильно укоренилась в контексте метавселенной во всех ее формах): отчуждение от природы, ее предметов, чувственного внешнего мира и отчуждение от родовой сущности. Действительно, вовлекаясь в виртуальную среду, нетрудно догадаться, что полное погружение в виртуальную среду может привести к потере чувства реальности и биологического «Я». Настоящие тактильные, физические ощущения, к примеру, гравитация или температура, не просто заменяются программными, но и контролируются ими. Таким образом, теряется связь со своим собственным телом. С другой стороны, онлайн-коммуникация вследствие замены физического взаимодействия между людьми приводит к поверхностным социальным коммуникациям. Виртуальное общение иногда может выступать и как монетизированный ресурс. Отчуждение человека в виртуальной реальности неоспоримо, так как в ней возникает процесс создания самих человеческих способностей и отношений в отдельную самостоятельную силу. Приматом Маркс считал именно отчужденный труд, так как человек реализует свои качества только практической (то есть – трудовой) деятельности. В цифровом пространстве происходит не только отчуждение от самого процесса труда, где алгоритмы и автоматизация лишают труд творческого элемента, но и отчуждение от продукта труда, так как созданный контент не только принадлежит отдельной компании, но и теряет связь с материальным миром. К примеру, создатели контента в соцсетях тратят годы на создание бренда, но алгоритмы могут лишить их аудитории в любой момент. Их труд отчужден от них самих, поскольку платформа контролирует распределение прибыли и популярность. Симуляция труда может рассматриваться как его предельная форма отчуждения, так как виртуальная реальность усиливает все четыре классических аспекта. Возможно выделение даже новых форм отчуждения, или, точнее – новых сторон классической концепции, например, отчуждение не только от природы, но и от самой реальности, где человек, посредством виртуальных технологий, может не осознавать своей эксплуатации, а воспроизводимые механики труда могут маскировать ее как самовыражение или развлечение. Когда труд направляется непрозрачными алгоритмами и системой, где происходит регулирование ресурсов и доступ к ним, возникает своего рода алгоритмическое отчуждение. Труд в метавселенной может стать более тотальным, нежели его традиционная физическая модель.
Проанализировав понимание проблемы в призме истории философии, мы выясняем, что технологии виртуальной реальности достигли такого этапа развития, когда становятся практически неотличимы от объективной действительности. Я считаю, что, в связи с этим, необходимо выделить новую форму бытия – виртуальную реальность. Прежде всего, вводимое мной понятие «форма бытия» должно быть в должной мере определено, так как проблема определения форм является одной из важнейших в философской науке. Является ли подобная реальность формой бытия? В онтологическом плане виртуальная реальность, с одной стороны, включает в себя объективно-идеальный аспект, так как любая компьютерная программа действует согласно логическим законам. С другой стороны, ее субъективная сторона выражается способностью человека создавать реальность, учитывая собственные предпочтения, характеристики, желание и волю. Для такого рода реальности обязательным критерием его существования является факт человеческого присутствия. Виртуальное – это то, что непосредственно связано с человеческим сознанием, благодаря нему оно расширяется и видоизменяется. Некоторые российские философы также выделяли виртуальную реальность в качестве новой онтологии, а не просто как технологию. Здесь виртуальность понимается не как иллюзия, а как альтернативная реальность, обладающая собственной онтологической значимостью. Виртуальная реальность вводит новый слой бытия, который уже не является просто копией реального, но способен существовать и эволюционировать по своим законам. Российские исследователи, например, Алексей Смирнов, рассматривают цифровую онтологию как новый этап развития философии, где виртуальное пространство становится самостоятельным модусом реальности.
Из онтологической природы логически вытекает размывание границ между физическим и цифровым, а, следовательно, и переосмысление субъективности. Проблема виртуальности тесно связана с фактом человеческого сознания и его субъективности. Если виртуальное – это не что иное, как формальная возможность, которая, способная к потенции на основе технологического компонента, неразрывно связана с человеческим сознанием, то сам факт создания некоего виртуального мира предполагает такой мир, где, при поверхностном анализе, реализация человеческого потенциала будет безграничной и всеохватывающей. Подобная тенденция к цифровизации общества неизбежно приводит к вопросам о том, является ли человеческое сознание и его носитель, человеческий мозг, способным к измерению и кодированию так же, как и вся загружаемая информация. Стоит отметить, что на первый взгляд такая трактовка является довольно идеалистической, если не брать во внимание технологическую составляющую как основу подобной формы бытия. Виртуальное всегда предполагает носитель, где происходят все информационные процессы. В то же время, когда мы говорим о субъективном, совершенно точным будет замечанием то, что субъективная сторона человека всегда обладает некой неполнотой формы отражения, неточностью. Однако в контексте виртуального мира человек заключен в позицию не только отражения знаков и символов, но и теряет средство действительного познания мира
Логично отметить, что создание сверхприродных средств существования посредством труда является главной сущностью человека, поэтому, с точки зрения марксистской теории, создание виртуальной вселенной является тем, что, наоборот, раскрывает и обогащает сущность человека, поскольку на протяжении истории человечества люди всегда пытались сотворить собственную, универсальную действительность, а создание второй «природы» является действительным выражением его сущности. Тем не менее, я должен раскрыть существенную разницу между тем, что является виртуальностью как отдельно взятым явлением, и то, как она влияет на взаимодействие человека с самой действительностью, какие отношения она создает и может создать в процессе погружения в нее. В сущностном свойстве такая форма бытия не несет за собой никаких негативных посылок: без человека она пуста, не существует. Но при вступлении человека во взаимодействие возникает противоречие. Человек оказывается настолько вовлеченным в свою созданную им самим оболочку, которая базируется на высоких технологиях и программах, что истинное познание самого себя, за что и отвечает субъективное, становится невозможным ввиду того, что человек не вступает во взаимодействие с миром. Если раньше субъективность формировалась через личный опыт, то в XXI веке роль алгоритмов и программ в ее развитии становится заметно сильнее. Программа может анализировать предпочтения, влиять на них, а также создавать новые потребности, ранее не существовавших. Все эти факторы ставят под сомнение факт наличия свободы воли в подобном пространстве, так как человек в таком случае теряет свою автономность.
Новая форма бытия создает новую форму идентичности – цифровое бессмертие. Личность и опыт каждого человека уникален благодаря его конечности. Это его характеристика как индивидуализированного существа. В виртуальном пространстве все данные сохраняются, обрабатываются и копируются. После смерти человек оставит профили социальных сетей, переписки и многое другое. Искусственный интеллект, в свою очередь, сегодня способен воспроизводить личность, создавая ее портрет. Для ИИ вполне осуществимо моделирование поведения человека, а в будущем, в чем я убежден, - его мышления.
В виртуальных вселенных наиболее ярко прослеживается разрыв между субъективностью и телесностью. Человек всегда осознавал себя через ощущения, эмоции и чувственный опыт в целом. В призме виртуальности этот контакт исчезает или сводится к минимуму, открывается новая, неизвестная ранее, антропологическая дуальность: тело человека оказывается второстепенным и вторичным, в VR-пространствах физическая оболочка становится гибкой: выбор пола, внешности и возраста размывает границы традиционного понимания самости. Расщепление субъективности усиливается тем, что сам виртуальный опыт довольно часто оказывается полнее и насыщеннее, чем его действительный вариант. Цифровая копия, тем временем, становится неким новым конструктом, который не имеет ничего общего с оригиналом.
Суммируя вышесказанное, я отмечу, что виртуальная реальность является одним из главных вызовов в философской науке. Не отрицая колоссальные успехи научно-технического прогресса последние годы, я убеждаюсь в том, что человечество стоит на пороге тотального переосмысления своего «Я» как целого и как индивидуального. Новая онтологическая реальность без сомнений может вызвать кардинальные изменения в понимании самого человека и мира в целом. Крупные повороты в области VR-технологий заставляют задуматься о том, какие серьезные шаги может сделать человек для того, чтобы улучшать и изменять себя. Виртуальная реальность – это не просто технология, а новая онтологическая среда, которая меняет саму суть человеческого существования. Вопрос теперь не в том, насколько технологии изменят мир, а в том, изменят ли они саму природу человека? Несмотря на то, что в этой работе отражены недостатки и потенциальные противоречия в самой идее «виртуальности», она, все же, имеет некоторые преимущества. В конце концов, все они нивелируются на фоне того, как далек будет человек от собственного созерцания и самоосознания, если в основе его реальности будет образ и символ, придуманный им самим.
Самоидентификация (кто я?)
В этом посте я хотел бы затронуть тему поиска себя, призвания что-ли.
А также и отношение к хобби.
Профессиональная ориентация или "кем ты хочешь стать, когда вырастешь?"
Так вот получилось, что я по жизни так и не самоидентифицировался, хоть и пытался.
Чего хочу, кто я, что я?
(Я хотел есть, гулять и спать 😁)
Так я и не понял, даже когда вырос.
А может я никогда и не "вырасту".
Семья в которой я вырос, хоть и благополучная, но в целом, ни на что конкретное не ориентирована.
Родители работали тем кем могли, кем получалось.
Батя работал электриком большую часть времени. Мама работала кем придётся.
Лично мне нравилось много что.
И рисование и коллекционирование масштабных моделей автомобилей и танков. Игра на гитаре, фотография, 3д моделинг.
Чего только не было.
Я быстро загораюсь идеей и начинаю ей "болеть".
Но, как и любая болезнь (не любая)
она проходит.
Я мог добиться каких-то успехов в многих направлениях. И добивался даже, но проснувшись однажды утром, я понимал, что "наелся" этого дерьма и больше не хочу.
Я не знаю как это работает. Вот ты полон идей, а вот и полная апатия.
В профессиональном плане, я стал электромонтёром, потому что батя им был и там было больше возможностей по блату залезть на должность.
А там, знакомые знакомых, помогут.
Сам бы я до электрика не додумался.
А до кого додумался бы и сам не знаю.
Но, наверное перепробовав кучу всего, может остановился бы на чём-то в итоге.
Вот и про хобби то же самое могу сказать. Много чего нравится, но чтобы посвятить себя чему-то конкретному, видимо это не моё.
Мне скучно станет, как только..
Не знаю, с другой ноги встану.
Но, интерес может и вернуться на время.
Периодически что-то возвращается и я с удовольствием какое-то время отдаю этому увлечению.
Дальше подобная история зацикливается.
Не знаю насколько это нормально или нет.
Но вот у меня как-то так.
Не то, чтобы я парюсь по этому поводу, просто понаблюдал за другими людьми и сравнил их подход со своим.
Про заработок на "хобби" - двоякое..
Вроде и да и х.з.
Когда начнут подгонять и заставлять, это такое себе хобби уже.
В детстве, первым увлечением стало коллекционирование моделей автомобилей в масштабе 1:43
Тут батя, когда мне бало 6 лет, купил мне первую модель и жизнь разделились на до и после.
Потом, я отказался от этого, так как для них нужно много места.
А у меня их было сотни.
Рисование вот тоже, (если это не на пк, естественно).
Куда девать эти "шедевры".
Вот такие вот мысли.
Остановился на должности электромонтёра и на тех хобби, для которых не нужно физически место.
Тем временем в США
Если не постанова и перевод верный, то это великолепно.
Ответ на пост «Про Казахстан, самоиндефикацию и свою жизнь»1
Как метис 50/50 могу сказать. Имея большое количество русских и казахов в родственниках - В кругу многих русских родственников еще будучи ребенком слышал, плохие высказывания о казахах, какие они тупые, ни на что не способны, им нужен русский начальник, чтобы ими руководил. Тупыми они чаще называли казахов которые плохо говорили по русски или с акцентом, но и говорящим по русски доставалось. Они тоже как и ТС возмущались, что казахов какого то хуя больше. Я недоумевал, да я даже не замечал этого мы же все один народ, не разные народы, а именно единый народ - нас так в школе учили может ТС помнит. Но если ты шовинистических взглядов наверное такое глаза бросается. Возмущаться казахам в Казахстане - это за гранью думаю. Были которые и не говорили такого, но что нибудь все равно проскальзывало в словах.
Помню казахских родственников, как на каждом тое они тщательно готовились встречать русскую родню. Ломали язык на русском, но говорили что бы русским было понятно, но в 90ые практический ни один русский даже не попытался скзать пару слов казахской родне на казахском, что бы было приятно. Со временем кто остались начали. И ничего плохо про русских от казахов ни разу не слышал, по крайней мере при мне. Хотя большую часть я проводил именно с казахской стороной.
Позже радикальная родня переехала в Россию, и стала говорить там, что их убивали, притесняли, запрещали говорить на русском, что они якобы еле ноги унесли иначе бы убили. Хотя в соседних районах у них остались другие русские родственники, которые этого ужаса не заметили. Может удача, а может радикальная родня что нибудь пизданула и получила за свой язык, а может они просто пиздят.
Те русские родственники, которые остались основали крепкие семьи, работают и учат язык. Те кто уехал тоже живут нормально. Но думают поливают грязью мою страну и по сей день.
Про Казахстан, самоиндефикацию и свою жизнь1
Родился в 1989-м году в едином тогда еще советском государстве. Когда мне было два с половиной года страны не стало и я оказался в государстве Республика Казахстан. Хоть мне и было всего чуть больше двух лет, я помню что бабушка плакала, говоря что мы отсоединяемся от России (хотя возможно это было позже, так как де факто отсоединение происходило не сразу, а постепенно). По мере взросления я замечал перемены по замещению населения в группе детского сада было полтора казаха (девочка казашка и мальчик метис), в первом классе казахов было человек 5 (20%), заканчивал школу 10 (1/3 класса), в университете 50/50. Если говорить про общественные службы, то русских сотрудников полиции в Караганде я не видел с 2003-го года и примерно с середины 00-х годов русские либо не представлены совсем, либо представлены, но номинально в государственных органах власти. Когда я пошел работать, а работал я на стройке, вначале автомобильных дорог, потом железных, то часто оказывался единственным русским. Особенно работая далеко от крупных городов.
Все вышеописанные вводные я указал именно к теме самоиндефикации. Так как каждый человек себя как-то индефецирует. Если в детстве я понимал что происходит что-то не то, что волнует моих родителей, бабушек, дедушку, но в целом не понимая политические моменты и живя по сути в обществе где культурная среда совпадает, со средой моей семьи еще не замечал дискомфорта. То работая и проживая в Казахстане, особенно за городом уже чувствовал себя чужеродным элементом.
Я ничего не говорю за казахов, по человеческой сути они ничем не отличаются от других, однако чувствовал что в целом меня мягко подталкивали к смене самоиндефикации. Заводя самые разные разговоры, смысл которых вел к тому чтоб перестать быть русским казахстанем, а стать казахстанцем с перспективой что твои потомки когда-нибудь станут казахами.
У самих казахов в памяти свежи ограничения что были в советское время, хотя они не были направлены на местное население, а скорее на глобальную смену хозяйственной деятельности молодого советского государства.
Предистория примерно такова огромные тиерритории были не освоены, были первые попытки освоения в царское время. Основной бум освоения пришелся на 20-е и 30-е когда советское правительство решило произвести промышленное освоение территории и перевести хозяйство на понятную и централизованную коллективную форму. В итоге в 30-х годах по всей республике (да и вообще по союзу) открылись предприятия где работали в основном заключенные, а казахи понесли людские потери, так как не были предрасположены к оседлой хозяйственной деятельности, так еще и при наличии плана лишились скота, хотя были еще и перебежчики, которые откочевали не только со своим скотом. Итог в республике сформировалось 2 мира, городской, где с 1956-го после амнистии заключенных бывшие лагеря стала осваиваивать советская молодежь с РСФСР и УкрССР и др. республик поехавшая за паспортами, квартирами. Люди не ощущали что они в национальной республике, так как в городах практически не сталкивались с корреным населением. Города КазССР зачастую были больше русскими чем города самой РСФСР. Казахи до 1973-го (как и все жители СССР проживающие в колхозах, позже совхозах) года не могли свободно выезжать в города, редкие кто из них могли устроиться в городе, а те кто устраивался проходил руссификацию, до сих пор потомки городских казахов не знают свой этнический язык. Определенная обида, недовольство и желание реваншизма возникло в то время. С развалом СССР национально настроенные силы часто припоминают, советский период как время притеснения, коллективизацию как голодомор казахского народа...
27 лет я жил в стране, где родился русским, казалось бы в своем культурном пространстве, но которое постоянно уменьшалось, я был гражданином страны, в которой я культурно чужой и с каждым годом становлюсь более чужим. В 2016-м я принял решение переехать по программе возвращения соотечественников в Россию. На тот год в программе были приоритетные регионы (восточная Сибирь и Дальний Восток) и все остальные. В консульстве в Астане мне посоветовали выбрать приоритетный регион, так как там меньше отказов, что я и сделал. Теперь 8 лет живу в России, в прекрасном таежном крае в восточной части страны. Конечно здесь многое не идеально, но я понимаю что меня никто не тронет за то что я русский. Я женился у меня прекрасная дочь. В целом я доволен жизнью.