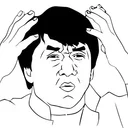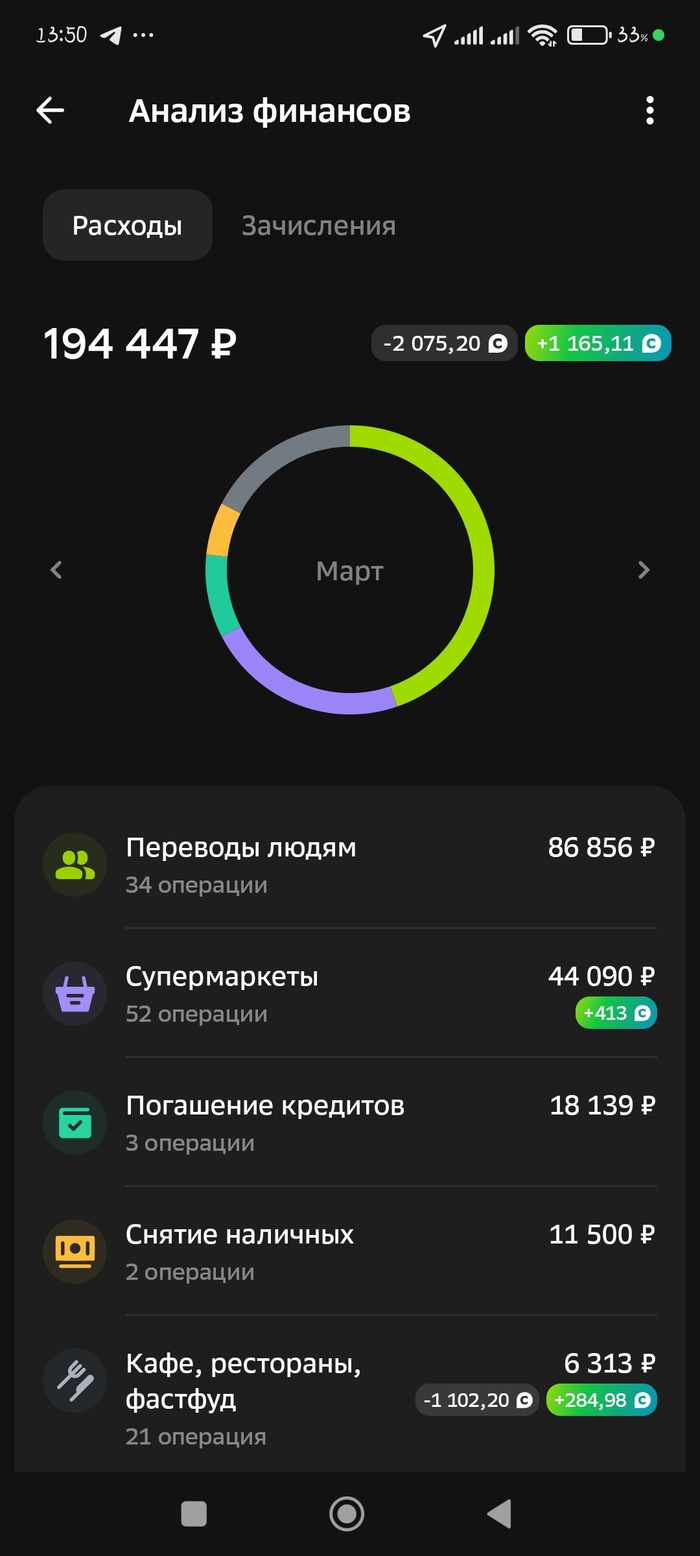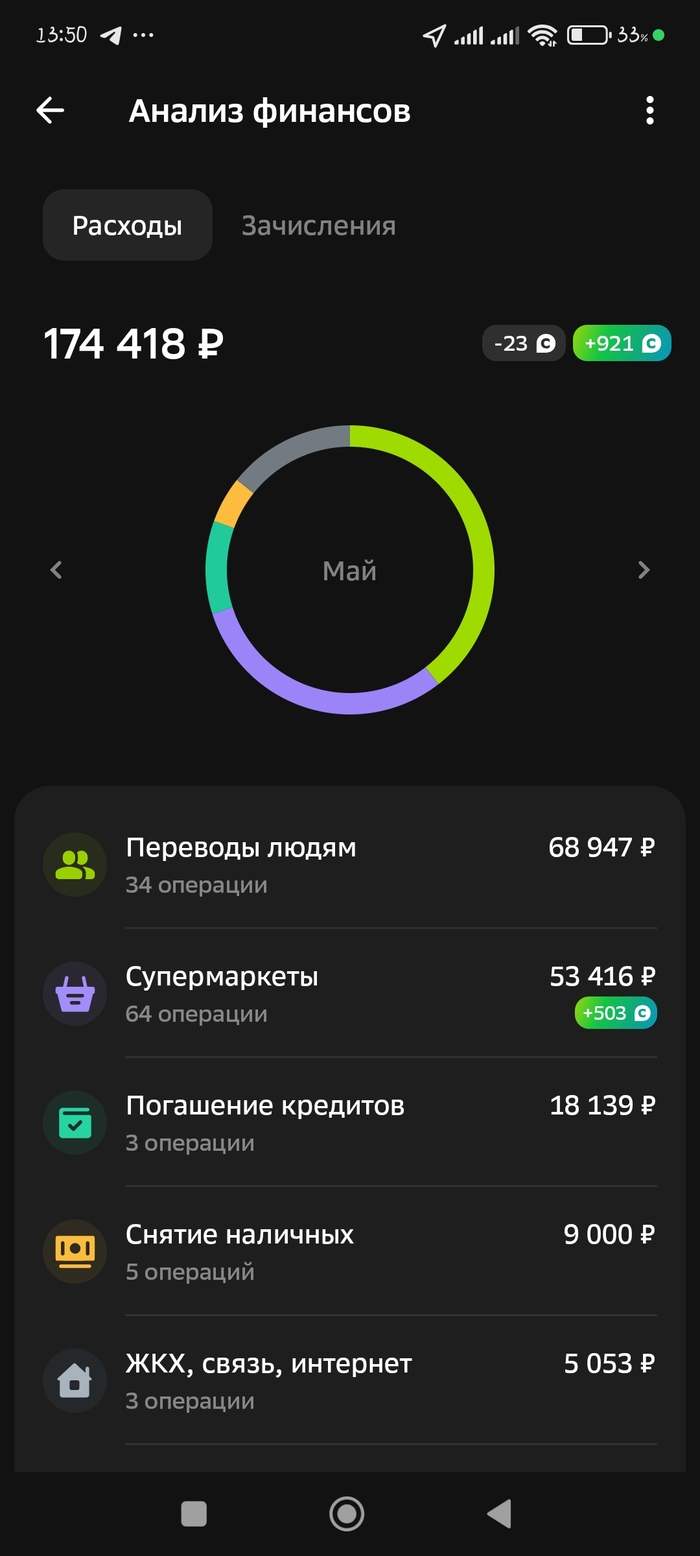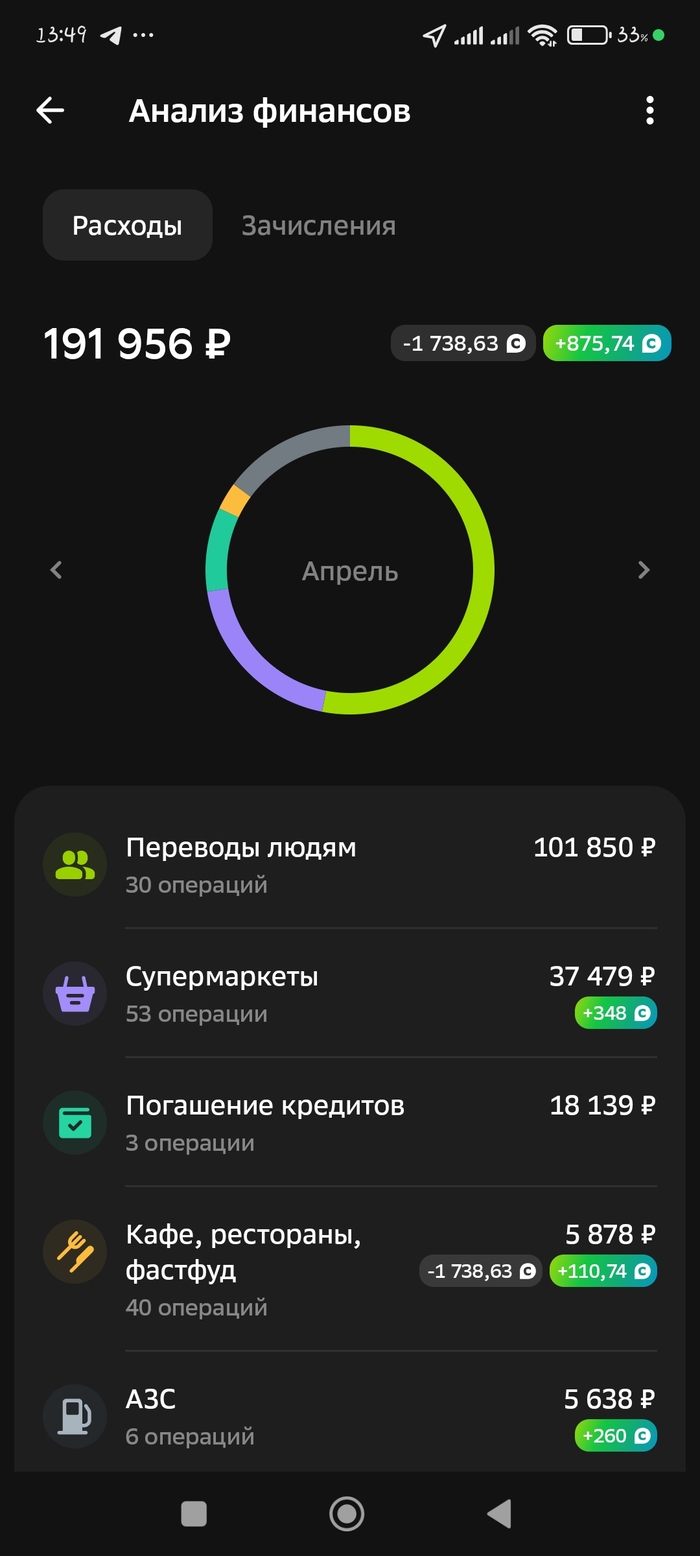Возвращение в «Дом Солнца» после Побега было похоже на мягкое падение обратно в реальность. Усталость накрыла их тяжелым, теплым одеялом. У Ани тошнота, вызванная мороженым, сменилась глубокой изматывающей слабостью. Макс чувствовал, как его мышцы болели от непривычного напряжения. Они были бледны, с синими пятнами под глазами, дышали поверхностно. Но в их взгляде, когда они ловили друг друга глазами в коридоре или когда Макс заезжал в Анину комнату, горело что-то неугасимое. Радость. Торжество. Тайна.
Именно эта тайна, это ощущение чуда, украденного у ночи, и породило новую идею. Она родилась в полусне, когда Аня, глядя на белый, пустой потолок своей палаты, вдруг сказала хриплым от усталости голосом:
– Здесь так пусто... Как до Большого взрыва.
– Пусть будет взрыв, – пробормотал Макс, дремавший в кресле у ее кровати, положив голову на сложенные руки. – Чего уж там.
– Давай... создадим свою вселенную? – шепот Ани был еле слышен, но полон странной силы.
Макс поднял голову, прищурился.
– Где? На потолке? – спросил он без тени насмешки, скорее с интересом.
– Да. Или... на большом листе. Нашу вселенную. Такую, как мы хотим.
Сестра Мария, узнав об их идее, вздохнула. Но на этот раз не стала ругаться. Она принесла огромный рулон плотной бумаги, набор детских гуашевых красок (ярких, почти ядовитых), кисти разной толщины и даже блестки. Ее жест был красноречив: творите, пока можете.
Бумагу прикрепили к стене над Аниной кроватью, чтобы она могла лежа видеть свое творение. Процесс был медленным, мучительным, прерываемым приступами слабости, тошноты у Ани и внезапными вспышками боли у Макса. Но он стал их священным ритуалом. Их «медовым месяцем», растянутым на дни, наполненным краской, шепотом и смехом, который чаще был просто сдавленным выдохом.
Аня лежала, прося Макса: «Сюда... синюю. Нет, темнее. Как ночь над сквером». Она указывала дрожащим пальцем, а Макс, стоя на одной ноге, опираясь на костыль или спинку стула (протез был слишком неудобен для таких маневров), наносил размашистые мазки густого ультрамарина. Его лицо сосредоточенно морщилось от усилия держать равновесие и контролировать дрожь в руке.
Потом появились звезды. Сначала Аня пыталась рисовать их сама, но кисть вываливалась из ослабевших пальцев. Тогда Макс брал тонкую кисть, макал в белую или серебряную краску, а Аня тыкала пальцем в место на «небе»:
— Здесь! Яркая! Как Вега... нет, ярче!
И он ставил точку. Потом желтую. Потом красноватую. Они создавали созвездия, не имеющие ничего общего с реальными картами. Это были их созвездия.
– Вот это... – Аня указала на хаотичный росчерк из точек, который Макс назвал «калякой-малякой». – Это «Тошнотворная». Потому что она вертится, как у меня вчера после мороженого.
– Гениально, – фыркнул Макс, добавляя к «Тошнотворной» еще одну особенно яркую точку – «Звезду Мороженого».
– А это? – он нарисовал странный зигзаг.
– «Звезда Одноногого Пирата», – не задумываясь, ответила Аня. – Потому что она острая и непредсказуемая, как ты.
Макс замер, потом громко, хрипло рассмеялся – редким, настоящим смехом.
– «Одноногого Пирата»... Ладно. Заслужила. – И он с гордостью подписал ее кривыми буквами.
Они нарисовали «Созвездие Зеленого Супа» (узнаваемое по клубящимся облакам), «Созвездие Морфийного Облака» (размытое фиолетовое пятно с блестками), звезду Сестры Марии (добрый круг с лучиками). И в самом центре, окруженное всеми этими абсурдными, болезненными, но их звездами, появилось новое созвездие – две яркие звезды, очень близко, почти сливающиеся в одну. Рядом Аня дрожащей, но упорной рукой вывела: «НАША».
Пока краска сохла, источая сладковатый запах, пришла пора другого ритуала. Того, о котором они говорили вполголоса, украдкой, боясь спугнуть серьезностью.
– Письма, – прошептала Аня однажды, когда они остались одни, глядя на почти законченную карту.
Он принес два листа бумаги и конверта. Писать было трудно. Физически. Руки не слушались, мысли путались. Но они писали. Не о смерти. Не о боли. Аня писала Максу о том, какой он сильный и смешной, как она рада, что он врезался в ее жизнь, как «чертовски рада», что он здесь с ней. О том, что свет «звезды Одноногого Пирата» она увидит из любой точки Вселенной. Макс писал Ане о ее храбрости, о ее глупых розовых очках, которые он, оказывается, любит. О том, что ее рисунки – лучшее, что он видел. О том, что «Их» звезда – самая яркая на их карте, и она никогда не погаснет.
Они не плакали. Они улыбались. Грустными, мудрыми не по годам улыбками. Письма были короткими, неуклюжими, как их поцелуи. Но в них была вся их любовь. Все их пятнадцать-шестнадцать лет. Вся их вечность.
Они запечатали конверты. Аня лизнула клейкий клапан, Макс прижал его ладонью. На конверте Макса Аня вывела: «Капитану Железному Денди. Вскрыть после достижения Альфы Центавра». На конверте Ани Макс нацарапал: «Главному Художнику Галактики. Вскрыть после открытия новой планеты Суп-без-Зелени».
Куда спрятать? Идею подала Аня. Они аккуратно отогнули нижний угол огромной карты звездного неба, приклеенной к стене. Макс, стараясь не порвать бумагу, сунул оба конверта в образовавшуюся щель между бумагой и стеной. Потом угол аккуратно приклеили обратно скотчем. Их послания в будущее, которого не будет, легли в основу их Вселенной. Секрет, спрятанный на виду.
Карта была закончена. Она висела над койкой Ани – яркая, немного нелепая, бесконечно трогательная. Их личный космос. Их побег от белых стен и боли в мир фантазии и любви. Персонал, заглядывая в палату, замирал на мгновение, глядя на это творение. Сестра Мария смахивала слезу. Доктор Андрей Петрович молча кивал.
Их «медовый месяц» продолжался в этих тихих вечерах. Когда Аня могла сидеть, Макс подкатывал вплотную, и они просто смотрели на свою Карту, сплетая пальцы. Когда она лежала, он садился на краешек кровати, и она клала свою тонкую руку ему на здоровое бедро. Они шептались о звездах, о глупостях, о вкусе ванильного мороженого. Обменивались короткими, нежными поцелуями – в щеку, в лоб, в уголок губ. Каждое прикосновение, каждое слово, каждый совместный вздох был драгоценным камнем в их крошечной, сияющей короне времени. Они не строили планов на завтра. Их вечность была здесь и сейчас, запечатленная в красках на стене и в шепоте между двумя койками. Они творили свою любовь и свое прощание, день за днем, мазок за мазком, слово за словом. Это был самый красивый, самый горький, самый настоящий медовый месяц на свете.