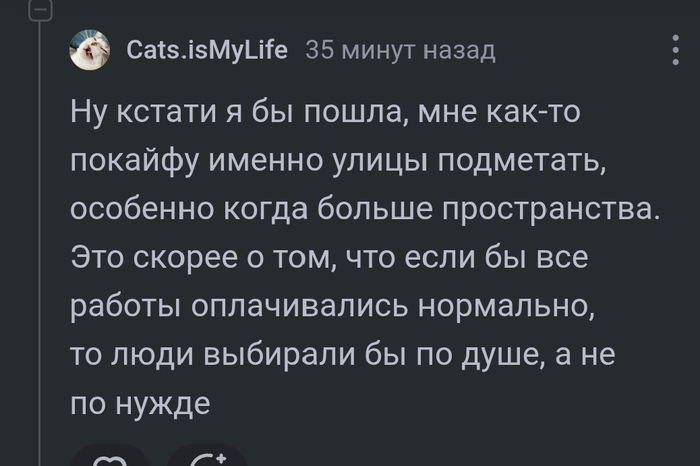Метель за окнами конторы «Жилкомсервис № 17» стихла к утру, оставив после себя сугробы чистые, как пергамент древних манускриптов. Во двор вышел Федот Кузьмич. Старый дворник, в ватнике, пропитанном запахом махорки и снега, в валенках, стоптанных на одну сторону, с метлой, похожей на посох странствующего аскета.
На вид - обычный старик. Морщины, как трещины на высохшей глине, глаза мутноватые, будто подернутые дымкой веков. Только взгляд… Взгляд был странный. Не стариковский, тусклый, а глубокий. Невероятно глубокий. Как будто смотришь не в глаза, а в колодец, уходящий в самую сердцевину планеты, а то и дальше.
Федот Кузьмич принялся мести. Метла его скрипела по утоптанному снегу ритмично, медитативно. Он не спешил. Каждое движение было выверено, осознанно. Он не просто сгонял снег, он чувствовал его. Каждую снежинку, ее уникальную, мимолетную структуру, ее путь из облака на эту серую плитку двора. Он знал, что она растает через пару дней, впитается в землю, станет частью дерева, которое потом кто-то срубит на дрова. И это было нормально. Он видел циклы.
Люди спешили на работу. Молодой инженер Петров, вечно озабоченный чертежами и квартплатой, чуть не сбил Федота Кузьмича с ног, увлекшись спором по телефону.
- Извиняюсь, дед! - бросил он на бегу, даже не взглянув.
- Ничего, Ванечка, - тихо сказал ему вдогонку дворник. - Твой проект моста через Ангару… добавь запас прочности в опорах №7 и №12. Там геологическая аномалия неучтенная.
Петров замер на полпути к подъезду, обернулся, ошарашенный. Откуда старый пень знает про Ангару? И про проект? Но Федот Кузьмич уже мирно сгребал снежок к бордюру, будто ничего не говорил.
На скамейку упала ворона. Неловко, с перебитым крылом. Забилась в сугроб. Проходившие мимо детишки ахнули, но мамы поспешили увести их: «Грязная, больная, не трогай!» Федот Кузьмич подошел, не спеша достал из кармана ватника кусочек черствого хлеба, размочил его в снегу. Осторожно приблизил к птице. Ворона замерла, глядя в его глаза. И в этих глазах - не страх, а узнавание. Федот Кузьмич что-то тихо проговорил. Не словами. Чем-то другим. Ворона перестала биться, она смотрела на него, и казалось, в ее черных бусинах-глазах мелькнуло нечто древнее, не птичье. Потом она взяла хлеб. Дворник аккуратно поднял ее, отнес в теплую будку кочегара.
- Подержи, Семеныч, до вечера очухается.
- Странный ты, Федот, - хрипло сказал кочегар, принимая птицу. - Словно ты не с людьми…
Дворник усмехнулся. Легкая, едва заметная усмешка тронула его потрескавшиеся губы.
- А я и не только с людьми, Семеныч. И не только здесь. И не только сейчас.
Он вышел обратно. Солнце, бледное, зимнее, пробилось сквозь облака, осветив двор. Федот Кузьмич прислонился к метле, глядя на это солнце. Он видел его рождение. Видел, как его первые лучи упали на молодую, кипящую лавой Землю. Он помнил запах первобытного океана, крики птеродактилей, скрежет ледников, сдвигающих континенты. Он был первой клеткой, делившейся в теплой луже. Он был рыбой, выползшей на берег. Динозавром, ревущим в джунглях. Обезьяной, впервые поднявшей камень. Фараоном и рабом, строившим его пирамиду. Легионером на пыльной дороге. Монахом в тибетском монастыре. Крепостной крестьянкой, палачом, поэтом, генералом, бездомным… Миллиарды жизней. Миллиарды вздохов, слез, смеха, агоний. Вся боль и вся радость мира протекали сквозь него, как вода сквозь сито времени.
Он знал всё. Почему падают звезды. Он знал, что было до большого взрыва. Он знал как вылечить рак. Он знал, формулу вечного двигателя. Знания были в нем, как воздух в легких. Необъятные, всеобъемлющие и абсолютно бесполезные.
Потому что он знал и другое. Знание - не мудрость. Знание всего - не панацея. Он видел, как самые гениальные открытия оборачивались адом. Как самые светлые идеалы разбивались о скалу человеческой природы. Он видел циклы цивилизаций - рождение, расцвет, надменность, падение, забвение. Снова и снова. Как смена времен года во дворе. Весна надежд, лето достижений, осень упадка, зима распада. И снова весна… но уже другой цивилизации, на пепле старой.
Люди проходили мимо. Озабоченные, спешащие, смеющиеся, плачущие. Они спорили о политике, о курсе доллара, о новой модели айфона. Они мечтали о любви, о деньгах, о славе. Они боялись смерти, болезней, одиночества. Федот Кузьмич смотрел на них с бесконечной, усталой нежностью. Как взрослый смотрит на играющих детей в песочнице, которые яростно ссорятся из-за формочки, не подозревая, что за забором - бескрайний океан и звездное небо.
Он мог бы сказать им. Мог бы открыть глаза. Но… зачем? Что изменит знание о миллиардах жизней для Ванечки Петрова, который вот-вот опоздает на автобус? Что даст знание формулы счастья бабушке Анфисе, которая плачет у окна по умершему мужу? Знание не снимет боль. Не даст любви. Не остановит глупость. Оно лишь сделает невыносимым груз осознания всей мировой боли и всей мировой тщетности.
Мудрость Федота Кузьмича была в другом. В этом тихом подметании двора. В куске хлеба для больной вороны. В умении видеть. Видеть непостижимую красоту в хрупкой снежинке. Видеть отблеск вечности в глазах спешащего человека. Видеть великую драму вселенной в крошечном дворике между пятиэтажками.
Он подметал. Тщательно, уголок за уголком. Очищал мир от следов вчерашней метели. От человеческого пренебрежения. Делал его хоть чуточку чище, упорядоченнее. В этом был его ритуал. Его скромное участие в вечном круговороте.
К нему подошел маленький мальчик, лет пяти. Потерял варежку. Глаза полные слез.
- Дедушка, ты не видел мою варежку? Красную, с белым оленем
Федот Кузьмич остановился. Посмотрел на мальчика. Взгляд его смягчился, стал теплее, человечнее.
- Видел, Костик, - тихо сказал он. - Она под скамейкой, у третьего подъезда. Сугробом припорошило немного. Иди, найдешь.
Мальчик радостно улыбнулся и помчался. Федот Кузьмич смотрел ему вслед. В этом сияющем лице, в этом маленьком мгновении радости от найденной варежки, была заключена вся тайна, вся боль и вся красота бытия. Вся мудрость, которая ему была доступна за миллиарды жизней.
Он глубоко вздохнул. Вздох, в котором смешались печаль всех миров и тихое умиротворение. Поднял метлу. Солнце уже клонилось к крышам, отбрасывая длинные синие тени. Двор был почти чист. Завтра снова пойдет снег. Снова будут суетиться люди. Снова кто-то потеряет варежку. И он снова выйдет с метлой.
Потому что это - его двор. Его крошечный участок вечности. И подметать его - единственное, что по-настоящему имеет смысл. Зная всё, он выбрал делать простое. И в этой простоте была его бездонная, немыслимая, тихая, как скрип метлы по снегу, мудрость. Мудрость, которой не было равных на всей планете. И которую никто, кроме ворон да потерявших варежку детей, не замечал.