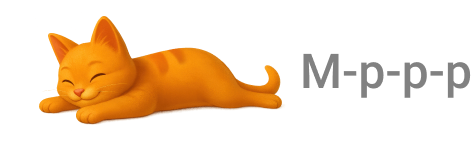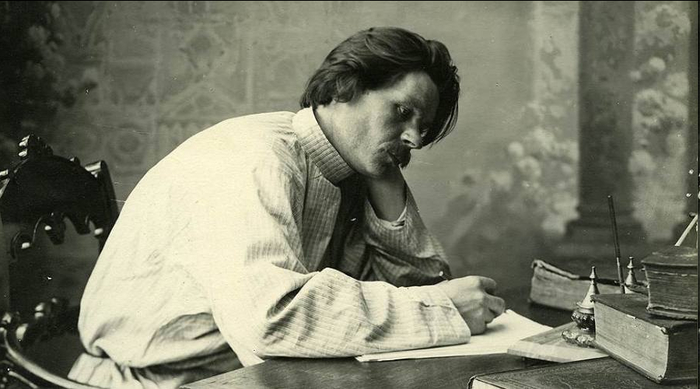Отцовская кожанка. Хоррор рассказ. 90-е. Часть первая
I
Я учусь на модельера-конструктора в провинциальном институте. Занимаюсь рисунком, живописью, изучаю основы композиции в костюме, материаловедение, технологии пошива. Очень люблю историю и философию моды, но понимаю, что с очень малой вероятностью моё образование сможет меня прокормить. Особенно это понимает мама. Она категорически против моего выбора, постоянно твердит о том, что я —«неперспективный имбецил». Может быть, она и права, но именно из-за неё я стараюсь как можно меньше времени проводить дома.
Есть еще один негативный момент — в этой стране абсолютно нет моды. Каждые лет тридцать здесь происходит какой-то катаклизм, а подобное непостоянство мешает развитию. Но эту страну я очень люблю, несмотря на все трудности, с которым сталкивается каждое взращённое поколение.
Однако всё не так серо: в моей палитре есть и другие цвета. На днях мне прислали предложение пройти производственную практику в малом семейном ателье. Но возьмут меня только при условии — я создам то, что способно их впечатлить.
Я с огромным энтузиазмом взялся за это задание. Современные тенденции в моде меня привлекать перестали, а наряжаться, как молодой кореец-метросексуал с Pinterest, меня абсолютно не привлекает, хоть это и привлекает всех остальных.
В противовес выглаженному, нежному и комфортному до тошноты кроя с симметрией, я планирую создать что-то деструктивное и раздражающее в духе Carol Christian Poell. Сейчас я ищу старую кожаную вещь, которую смогу трансформировать. Хочу придать ей новый виток жизни, посадить почку и наблюдать за её цветением. Сниму фурнитуру, распорю швы хирургически точными движениями, а из оставшихся цельных фрагментов: спины, рукавов, воротника создам нечто совершенно новое.
II
Телефон завибрировал, на потрескавшемся экране появилось её сообщение: «Отец сегодня забирает всех на дачу, а меня оставили дома из-за долгов по учебе». Подобные «письма счастья» я желаю получить каждому. Я отписал, что после занятий сразу к ней.
Мои пары закончились. Я спешно собрал рюкзак и побежал, стараясь успеть забрать куртку, прежде чем образуется очередь. Получилось: отдал номерок гардеробщице, от которой пахло нафталином, и двинулся к выходу. Неподготовленные к весенней приветливости глаза огрело лучами солнца, едва я вышел за порог. Пришлось прикрываться руками. Атакующее небо было прекраснее сырой земли — кругом лужи и слякоть от тающего снега. Весна.
Остановка была недалеко. Кое-как я добрался до неё и стал ждать свой старенький советский троллейбус.
Рядом стояли одногруппники, они яростно что-то обсуждали. Кто-то из них в диалоге вкинул: «Солдаты перестройки оттаивать будут». Фраза пронзила мою голову. Я вспомнил об Андрееве — точнее не об авторе, а конкретно о рассказе «Красный смех».
На самом деле я всю жизнь ненавидел вторую половину зимы. Первая — это белый снег, фура с кока-колой, кульки с конфетами, Новый год и свежий морозный воздух. А вторая — отсутствие солнечного света, тридцатиградусные морозы, болезни и экзистенциальный ужас. Наверное, больше всего я ненавижу февраль: именно в этом месяце я по обыкновению в запой читаю Леонида Андреева, смакуя этот ужас вместе с сигаретой и кофейком.
Размышления прервал подъехавший троллейбус. Я попрощался с одногруппниками, пожали руки, сел в транспорт.
Подошел к водителю, протянул ему тридцать рублей. Его заскорузлая, старческая рука взяла деньги и оторвала мне билетик, пахнущий типографской краской.
Любимое одноместное сидение было свободно. Я скоро занял его, достал наушники, в рекомендациях была одна блатная романтика: «Миша Круг», «Бутырка», «Воровайки».
III
Окно троллейбуса стало монитором в прошлое — беззаботное прошлое, когда еще отец был с нами. Мы ехали в деревню. Помню, как упрашивал маму посадить меня вперед: мне хотелось быть рядом с папой, мою детскую любознательность привлекал запах его одеколона. Мама мне отказывала, но в какой-то момент отец сказал: «Да хватит уже, пускай вперёд прыгает. Если менты будут — сразу пригнешься, чтоб тебя не видно было, да?»
— Ага! Обещаю-обещаю! — помню, что я очень сильно обрадовался, даже запрыгал от счастья.
Но мама, уставшая от постоянного стресса, наотрез отказала и сказала, что пока мне не исполнится двенадцать лет, никаких поездок спереди не будет. Отец лишь пожал плечами, глядя на меня, и сказал: «Ну что ж…». Я расстроился, но не хотел подавать вида и со слезящимися глазами прыгнул на заднее сиденье, отвернувшись в сторону окна.
Через некоторое время я заметил, что на коробке передач красуется погружённая в стекло розочка. Неприкасаемая красота, прикрытая блестящей толщей стекла — и пока эта толща не исчезнет, она будет радовать всех своей целостностью. Весь салон уже пропах едким запахом «Донского табака» — открытое окно не справлялось с дымом.
Мы заехали на заправку, я последовал за отцом. Мой взгляд привлекла его кожаная куртка. Она навсегда осталась в моей голове символом мужества.
— Ты уж сильно не переживай и не расстраивайся. Обязательно, когда вдвоем будем, я тебя вперёд посажу, а ты молчок — он похлопал меня по плечу, — и переспросил —Хорошо? — Я положительно кивнул.
Дальше трасса, в конце которой заходило знойное солнце. Наступила легкая прохлада. Через какое-то время отец выбросил сигарету в окно, откашлялся, развернулся ко мне и сказал: «Ты не кури никогда, эта зараза сгноит тебе заживо».
— А почему куришь ты? Бросай, — сказал я, глядя на его желтые пальцы.
— Поздно уже мне. Бросить тяжело, да и стресса в жизни моей хватает. Работаю много, чтобы ты не видел эти кошмары перестроечные, — проговорил он с какой-то пустотой в глазах. Судя по интонации, произносить это не хотел — слова вырвались произвольно.
— Ты совсем идиот? Рот закрой! — мама повернулась ко мне. — Не слушай его. Просто кто-то неспособен взять ответственность за свою зависимость.
С повышенном тоном протянула она, раскинула руки и уставилась в окно.
Это было одно из последних моих воспоминаний, связанных с отцом. Ну, неудивительно, что он ушел. Не знаю, как в Москве, но в моей провинции каждый второй ребенок воспитывается без отца. Здоровая и полноценная семья здесь — редкость. Редкость, которая постоянно подвергается проверкам на прочность: войны, революции, перестройки, какие-то постоянные смены парадигм. Пройти подобное — настоящее испытание.
Троллейбус резко затормозил, издав истошный, словно человеческий стон, звук. Я вздрогнул — моя остановка. Закинул рюкзак на плечо и вышел. Забавно: все течет, все меняется, но витающий в воздухе запах Донского табака остается. На пути к её дому в кармане нащупал скрученный билет — он оказался счастливым, но я его есть не стал, выбросил.
IV
Как спрыгнул с троллейбуса — сразу отписал Даше, что скоро подойду. Через 10 минут позвонил в умный домофон, напоминающий скорее HAL9000 из «Космической Одиссеи», но мне не ответили. Затем я достал свой телефон, напоминающий скорее черный монолит из той же Одиссеи, и набрал своей Gothic Princess. Дверь открылась.
Я зашел в квартиру и увидел Дашу — она стояла в конце коридора, за углом, подглядывая, как я разуваюсь. Она подошла ко мне и поцеловала, я схватил её за талию и буквально растворился в ней своими губами, как на картине «Поцелуй» у Горюшкина-Сорокопудова. Мы оказались на кровати, покрытой прохладным шелковым одеялом, в миссионерской позе. Мои зубы оставляли розовые следы на её бедрах, поднимаясь к хрупкой шее. Я душил её, пока она полностью не провалилась в подушку, а на лице проявились голубые ответвления вен. Я нежно в неё входил, погружаясь глубже, плавно, потом быстрее набирая темп. Её финальный аккорд был совершенен настолько, что я просто не мог отпустить вцепившиеся в шелковое одеяло руки, всё мое тело обхватила дрожь.
Когда последние судороги отпустили нас, мы поцеловались и засеменили на кухню, варить в турке кофе и есть клубнику. Потом перешли на балкон курить самокрутки. Некоторое время молчали, я просто наблюдал за её красотой на фоне розового заката, с открытой форточки шел свежий весенний ветер
— Слушай, а почему тебе так нравится удушение, как ты думаешь? — спросил у неё я.
— Это сложный вопрос, на самом деле, — она провела пальцем по краю чашки, не сразу подняв глаза — Я долго об этом думала... — немного отхлебнула и продолжила: — Я думаю, что это связано с детством. Мой отец был авторитарным и достаточно холодно относился к нам с мамой, — она закурила сигарету и продолжила, — роли общественные так распределены доминирующий мужчина и подчиняющаяся ему женщина, к сожалению. Да и тебе самому это нравится, я же вижу — она ухмыльнулась, коснулась моего подбородка и поцеловала.
Её ответ мне понравился — чего ещё ожидать от девушки, которая учится на психолога. Мы молчали еще несколько минут, а затем я продолжил.
— Да, и мне нравится почему-то быть грубым. Возможно, если использовать твою же теорию, то это из-за постоянной грубости мамы в отношении меня. Она и над отцом так издевалась. Но я думаю, что мать винить в этом нельзя, ей самой тяжело. Представь, ведь костлявые руки время от времени нет-нет, но касаются института семьи.
Мы заказали азиатской еды и всяких вкусностей из «Самоката»: она очень любила лепёшки с творогом и зеленью, онигири. Весь оставшийся вечер мы продолжали курить, лежать в кровати и смотреть «Беременна в 16». Я спросил у Даши, есть ли у неё или её семьи ненужная старая кожаная одежда, но она ответила, что нет.
Засыпал очень плохо, с какой-то тревогой. Застыл в переживаниях, как древний артефакт в болоте. В сущности, понимал, что у меня абсолютно нет ничего. Мои желания почти неисполнимы, а проблемы насущны. Долго ворочаясь, много думая, у меня получилось уснуть.
Я стою где-то у торгового центра в 90-е. Подъезжает машина, из неё выходит отец. Он стоит и смотрит на меня, буквально сверлит взглядом. Я невольно всматриваюсь в глаза и вижу в них бездну ужаса, стремительно растущее безумие. Через некоторое время я почувствовал, что смотрит он не на меня, а на то, что находилось за мной. На очередную смену парадигм. Катарсис, в стенах которого навсегда останется не преодолевшая эту преграду семья. Снова наступает время перемен. Перемен, за которыми он наблюдает прямо сейчас. В этих черных бездонных зрачках отражалось что-то страшнее, чем смерть. Это была цена этих перемен. Цена, которую заплатить он не сможет — будут платить его дети.
V
Я резко вскочил с кровати, сердце колотилось с огромной скоростью, дышать было тяжело. Поцеловал спящую Дашу и пошел на кухню, попить воды. Прощупывая рукой свой путь, я двигался сквозь ткань темноты. Я стоял на кухне и жадно пил холодную воду. В моем бессознательном находится какой-то кошмар. Я долго обдумывал происходящее во сне и решил посмотреть мамин альбом. А еще у нас дома может быть старая кожанка —это был популярный предмет гардероба в его времена. Я умылся, быстро собрался, стараясь быть как можно тише. Снова поцеловал Дашу в её теплую, полную жизни, нежную щеку.
Аккуратно закрыл дверь и пошел домой. Шел по пустому городу, наблюдая рассвет, слушая редкие трели птиц и покуривая сигарету. Я знал, что мамы дома нет, у неё ночная смена. Пришел домой и сразу двинулся в её комнату. Где-то среди моря макулатуры лежит тот самый альбом — альбом с фотографиями некогда счастливой семьи.
Нашел. Надежда на счастливое будущее в действительности пусть и втоптана в сырую землю, но она навсегда останется на этом пожелтевшем снимке полароида. На отце была прекрасная кожаная куртка, а его взгляд буравил меня, словно просил о встрече. Мне стало жутко, и я перевернул фотографию. На обратной стороне был адрес, кажется, это гараж дедушки, которым отец постоянно пользовался. Я проводил там время только в раннем детстве, мы с отцом лазили в погреб и строили там маленькое помещение. Я знал, где лежат ключи. Там наверняка должны быть архивные, архаичные вещи.
Приехал на такси. Кругом грязь, шел дождь и задувал сильный ветер. Все гаражи были пронумерованы, что облегчило мне задачи по поиску, ведь я почти ничего не помнил. Вокруг лаяли собаки, что послужило мне мотивацией скорее найти то, что я ищу. Мои детские воспоминания не подвели: к одному из нескольких гаражей подошел мой ключ.
В темном сыром помещении с металлическими стенами я нащупал счетчик, включил свет. Протекала сгнившая крыша, падали капли воды. От сильного запаха бензина, смешанного с растворителем, заслезились глаза. Лежало огромное количество старого тряпья, в том числе кожаного.
В ритм дождя вторгся протяженный тихий вой, доносившийся из подвала. Меня охватил животный страх, нарастал ужас. Мурашки забегали по телу. Медленно, настороженно я спускался вниз, облокачиваясь на холодную и сырую кирпичную кладку. Фонарик телефона осветил силуэт человека. Я пытался закричать во всю глотку, но мои связки были похоронены в горле. В кирпичной стене находилось мертвецки-бледное, обвисшее, покрытое отеками лицо моего отца. Его легкие продолжали вбирать и выпускать воздух. Он пытался кричать, но это было уже не человек, а просто кусок разлагающейся кожи, беззащитно шевелящий гнилыми губами. Мне стало спокойно на душе. Я всегда знал, что змея, которая не сможет отбросить свою кожу — умирает, как умирает все, что не прошло проверку перемен. Я содрал с его разлагающегося тела материал для моего будущего: несколько лоскутов кожи, рукава, манжеты — и поднялся по скрипучей металлической лестнице наверх, обратно в свет.
Продолжение следует...