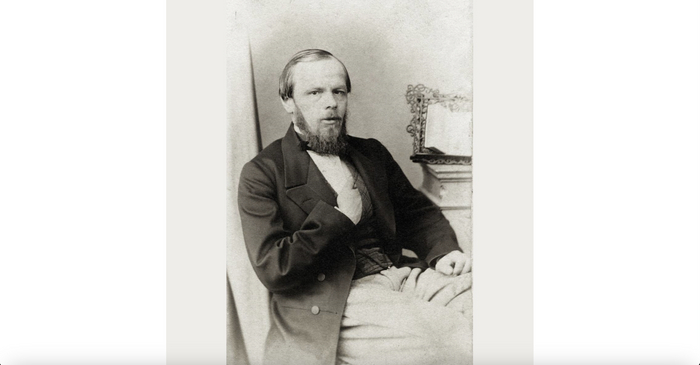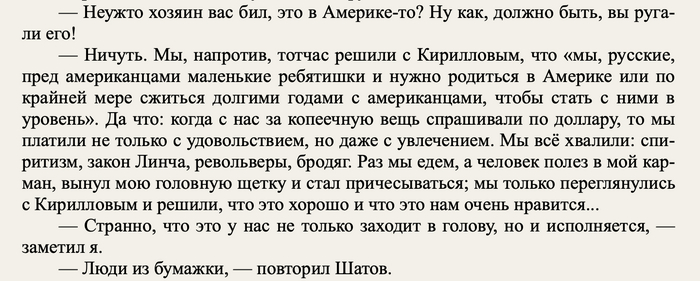Родословная: семья и ранние годы
Фёдор Достоевский родился 30 октября (11 ноября по новому стилю) 1821 года в Москве, во врачебном семейном доме при Мариинской больнице для бедных. Его отец, Михаил Андреевич Достоевский, был потомственным дворянином из духовного сословия – учился в семинарии, но выбрал карьеру военного медика. Служа врачом, он дослужился до чина коллежского асессора и получил дворянство. Человек глубоко религиозный и начитанный, Михаил Андреевич по вечерам читал детям вслух Пушкина, Карамзина, Державина. Он слыл натурой противоречивой – вспыльчивой, суровой, но в то же время любящей. Современники отмечали, что, несмотря на строгость, детей в доме Достоевских “никогда не били и вообще не наказывали жестоко”. Мать писателя, Мария Фёдоровна (урождённая Нечаева), происходила из купеческого сословия. Она привносила в дом мягкость и душевность: учила детей грамоте по Священному Писанию, пела им народные песни. Именно от матери, по воспоминаниям, Фёдор унаследовал впечатлительность и любовь к русской речи.
Детские годы Достоевского прошли в патриархальной, благочестивой атмосфере, полной любви и заботы. В семье устраивали вечера чтения, няня рассказывала малышам сказки, а летом дети бегали по полям в небольшом отцовском имении Даровое под Каширой. Сам Достоевский много лет спустя называл своё детство “лучшей порой жизни”. Однако над этой счастливой порой вскоре сгустились тени: в 1837 году, когда Фёдору было всего 15, от чахотки умерла мать. Для юного Достоевского это было первым жестоким ударом судьбы. А через два года семья потрясена новой трагедией – в 1839-м при загадочных обстоятельствах скончался отец. По одним слухам, у Михаила Андреевича случился удар, по другим – он пал жертвой гнева собственных крестьян. Эта тайна – смерть отца от рук крепостных – словно отголоском прозвучит много лет спустя в судьбах героев Достоевского, где грех отцеубийства и расплата за него станут центральным мотивом.
Осиротев, 16-летний Фёдор вместе со старшим братом отправился в Санкт-Петербург учиться на военного инженера. Но арифметика и черчение мало трогали его душу – оба брата “грезили исключительно литературой”. Уже тогда в письмах к брату Михаилу у Фёдора проскальзывают те самые интонации, которые потом зазвучат на страницах его романов. Юноша просил у отца денег столь же страстно и остроумно, как герой “Подростка”, а в сложных отношениях с суровым отцом угадывались будущие Карамазовы.
Братья и сёстры: близость и разлуки
В семье Достоевских было восемь детей, семеро из которых дожили до взрослого возраста. Фёдор был вторым ребёнком, “по старшинству я родился вторым”, вспоминал он позднее. Старший брат Михаил (родился за год до Фёдора) стал для него другом на всю жизнь – родственной душой, с которой он делился первыми литературными опытами и сокровенными мыслями. Братья были неразлучны в детстве, вместе отправились учиться в Петербург, снимали комнату и ночи напролёт обсуждали книги и мечты о славе писателя. Их пути разошлись лишь когда Михаил не поступил в инженерное училище, и Фёдор вынужден был учиться один. Разлука только усилила их переписку – письма полетели между столицей и провинцией, полные братской любви и литературных планов.
Кроме Михаила, у Фёдора было три младших брата – Андрей, Николай, Алексей – и три сестры: Варвара, Люба и Вера (Люба умерла ещё ребёнком). Сестёр своих Достоевский нежно любил. Особенно тепло он относился к сестре Варваре, третьему ребёнку семьи: их детская дружба сохранилась и во взрослой жизни. Варвара позднее вспоминала, как Федя в детстве мечтал стать новым Пушкиным или Гоголем – эти мечты он с упорством пронёс через все испытания. Братья Андрей и Николай избрали военную и государственную службы, жили своими судьбами, но с интересом следили за успехами знаменитого родственника. Когда Фёдор Михайлович возвращался из ссылки, вся большая семья собиралась вместе – эти встречи грели его сердце среди житейских бурь. В трагическом 1864 году Достоевский потерял сразу двух близких людей: умерла его первая жена и вскоре скончался брат Михаил, подорвав здоровье. Фёдор тяжело переживал смерть любимого брата, называя его “вторым я”. Он не только оплакивал друга детства, но и почувствовал ответственность за семью Михаила – забота о вдове брата и племянниках легла на его плечи в те нелёгкие годы. Братская привязанность, зародившаяся в московском детстве, стала для Достоевского источником и радостей, и горьких утрат, что отзовётся в его прозе темой неразрывной семейной связи и долга.
Браки, муки и радости личной жизни
“Любовь спасёт мир”, – эти пушкинские слова были близки сердцу Достоевского, но путь к семейному счастью для него оказался тернист. Первый брак писателя был заключён в феврале 1857 года на далёкой сибирской окраине – в Кузнецке. Его избранницей стала Мария Дмитриевна Исаева (урождённая Констант)– вдова, с которой он познакомился во время ссылки. Мария была женщиной образованной, впечатлительной, с непростой судьбой. Современники описывали её как натуру “необыкновенно живую и впечатлительную”.
Достоевский полюбил её горячо и сострадательно – “в ней столько страдавшего сердца”, писал он другу. Их брак начинался с надежд: “Грозные и счастливые дни” – так назвал Достоевский первые месяцы их супружества. Мария Дмитриевна разделила с ним тяготы последних лет ссылки, но семейное счастье омрачалось испытаниями. Она страдала от чахотки и частых смен настроения, а Фёдор Михайлович – от эпилепсии и вечных долгов. Они переехали в Петербург, мечтая о новом начале, но бедность, болезни и творческие муки создавали напряжение. В эти годы сердце Достоевского разрывалось между долгом и страстью: в его жизнь ворвалась Аполлинария Суслова, молодая студентка, гордая и своенравная красавица. Их роман – стремительный, мучительный – стал для писателя источником как вдохновения, так и чувства вины. Суслова, которую сама Анна Достоевская называла “демонической женщиной”, позже вспоминала, как Фёдор Михайлович метался между ней и умирающей женой. Эта “роковая любовь” не принесла счастья никому: Суслова отвергла предложение руки, а больная Мария Дмитриевна знала о измене и страдала молча. Мария скончалась в 1864 году, и Достоевский слезами покаяния оплакивал её: “рыдал навзрыд, как ребёнок”, по воспоминаниям друзей. Аполлинария же покинула его, оставшись в истории прототипом многих “инфернальных” героинь Достоевского – Полины из «Игрока», непримиримой Катерины из «Братьев Карамазовых».
Овдовев и испытав болезненный разрыв, 45-летний Достоевский ощущал себя опустошённым и одиноким. Судьба, однако, готовила ему награду за перенесённые страдания. В 1866 году, работая над романом «Игрок» и будучи загнан в угол долгами, он нанял молодую стенографистку Анну Сниткину. “Она была моим лучом света”, писал он о ней. Анна Григорьевна Сниткина, 20-летняя девушка из простой семьи чиновника, оказалась необыкновенно терпеливой, умной и преданной. Между писателем и стенографисткой быстро вспыхнуло взаимопонимание, переросшее в любовь. Уже через несколько месяцев, в февральский день 1867 года, Анна стала второй женой Достоевского.
Этот брак подарил писателю тихую гавань, о которой он и не мечтал. Анна стала для него не только супругой, но и опорой, ангелом-хранителем. Она взяла на себя все бытовые хлопоты, вела дела, помогла расплатиться с долгами, организовывала издание его книг. “Без неё я бы погиб”, признавался Достоевский друзьям.
Молодожёны уехали за границу, спасаясь от кредиторов, и провели за рубежом четыре непростых года (1867–1871). В это время сказалась губительная страсть Достоевского к рулетке: он проигрывал последние деньги в немецких казино, доводя жену до отчаяния. Но Анна не сдавалась – она верила в гений мужа и терпеливо вытаскивала его из игрового ада. В писательском дневнике Анны есть трогательная запись: “Сегодня Федя снова все проиграл... Я обещала себе терпеть – ведь у него такой взгляд мученика, когда он просит прощения”. Эта бесконечно преданная любовь жены постепенно исцелила Достоевского: к концу жизни он смог побороть зависимость, во многом благодаря Анне.
Семья росла – у Достоевских родилось четверо детей. Первенец, маленькая Соня, умерла в младенчестве, что стало для родителей тяжёлым ударом: горе это отразилось, как считают исследователи, в изображении умирающего ребёнка в “Братьях Карамазовых”. Вторая дочь, Любовь Фёдоровна, была “папиной любимицей”. Восторженный отец писал в 1869 году: «Не могу вам выразить, как я её люблю... Девочка здорова, весела... На меня похожа до смешного».
Позже Люба стала писательницей-мемуаристкой и оставила воспоминания об отце. Двое сыновей – Фёдор и Алексей – родились уже в 1870-е; младший, Алёша, получил имя в честь героя-праведника из «Братьев Карамазовых». К несчастью, мальчик умер от эпилепсии в возрасте 3 лет, повторив рок болезни отца. Эта трагедия глубоко потрясла Достоевского. Тем не менее семейная жизнь с Анной была для него источником тихой радости. В редкие часы покоя он играл с детьми, рассказывал им сказки. Анна вспоминала, как однажды застала мужа плачущим над колыбелью сына: “Что ты, Федя?” – спросила она. – “Я слишком счастлив, – ответил он, – и потому страшно боюсь: за всё счастье надо платить...”
Так и вышло: в последние годы, когда мировая слава уже сопутствовала Достоевскому, его здоровье ухудшалось. Анна не отходила от его постели во время эпилептических припадков и кровохарканья. 28 января (9 февраля) 1881 года сердце Достоевского остановилось. Анна Григорьевна осталась верной хранительницей его наследия до конца своих дней – издала его собрание сочинений, создала первый музей. Личная жизнь Достоевского вместила ад и рай, отчаяние и восторг – страдания, которые закалили его душу и отразились в вечных образах его книг.
Философские взгляды Достоевского
Вера и сомнения: религиозные искания
Духовные искания Достоевского – это драма души, разрываемой между жаждой веры и муками сомнения. С детства впитав благочестие родителей, он рано столкнулся с “проблемой Бога” лично: смерть матери, тирания (или гибель) отца – всё это бросало юного Фёдора в пучину вопросов о справедливости мироустройства. В 1840-е, увлёкшись идеями утопического социализма и европейского вольнодумства, Достоевский, казалось, отошёл от церковной веры. Он вошёл в кружок петрашевцев, где обсуждались запрещённые книги, поддавал сомнению основы самодержавия и религии. За эти дерзания судьба (в лице царской полиции) подвергла его суровому испытанию – аресту, тюрьме и смертному приговору. Когда 22 декабря 1849 года Достоевского вывели на Семёновский плац для казни, он уже простился с жизнью. Однако в последний миг расстрел инсценировали, а настоящим приговором стала каторга. Родившись заново на эшафоте, он обрел потрясающий духовный опыт. В письме брату сразу после помилования Достоевский писал из крепости: «Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих… быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача её. Я сознал это». Эти слова – словно его новый символ веры, выстраданный перед лицом смерти.
Годы каторги в Сибири стали для Достоевского временем духовного перерождения. Он много размышлял, читал единственную разрешённую книгу – Евангелие, подаренное декабристскими женами. Позже писатель говорил, что заново прочёл и переосмыслил всё Евангелие, находясь в оковах. В душе его постепенно складывался «русский Христос» – не абстрактный догмат, а живой, всепрощающий идеал любви и страдания. После освобождения в 1854 году Достоевский написал потрясающее по откровенности письмо (к Наталье Фонвизиной), где исповедал своё религиозное чувство: «Если бы мне доказали, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с истиной».
В этих словах – квинтэссенция его мироощущения. Для него Христос – выше рациональной правды, это воплощение добра и смысл жизни. Достоевский осознал, что сердце человека жаждет верить, даже если разум бунтует. Эту борьбу веры и сомнения он сделал стержнем своих поздних романов. Ведь он сам был одновременно и страстно верующим, и мучительно сомневающимся. “Бунт” разума против Бога высказывает Иван Карамазов, отвергающий мир, где страдают дети. А ответом ему – тихий подвиг Алёши, который верит “наперекор” всему. Достоевский не даёт простого решения: его герои мечутся между небом и бездной, и сам автор вместе с ними переживает эти мучения. Тем не менее, его публицистика 1870-х – статьи в «Дневнике писателя» – полна пророческой веры в особый путь России как хранительницы христианских идеалов. Он писал о грядущем возрождении духовности, о том, что “русскому народу без веры – нельзя”. Достоевский верил в народное православие – сердечную веру, соединённую со смирением и любовью к “униженным и оскорблённым”. Но при этом он оставался сыном века, знавшим цену “идеям без Бога”.
Политические взгляды: от революции к «почве»
Мировоззрение Достоевского складывалось в эпоху бурных идейных исканий в России. В молодости он впитал дух революционных надежд 1840-х годов – социализм тогда многим казался религией будущего, где царство Божие наступит на земле, без Бога. Но уже первые шаги на этом пути привели писателя к краю могилы. Каторга отрезвила его политически. Наблюдая каторжан – простых мужиков, забитых, но с живой душой – он проникся уважением к народной сути, которая не вмещалась в узкие схемы утопистов. Вернувшись из ссылки, Достоевский стал на позиции, которые сам называл «почвенничеством»: примирение образованного общества с народом на основе общих духовных ценностей, веры и национальной культуры. Он резко противопоставил себя модным западническим теориям. Особенно сильный отпор дал Достоевский нигилизму и революционному экстремизму 1860-х. В знаменитом романе «Бесы» (1872) он провидчески изобразил гибельное лицо одержимых идеей насилия “ради светлого будущего”. Фанатик-революционер Пётр Верховенский со своей шайкой (списанный с реальных народников-террористов) предстаёт у Достоевского злым бесом, разрушителем души. Писатель, некогда сидевший в каземате за мечты о свободе, теперь заклинал новых бунтарей: он видел, что их идеи лишены духовного измерения и ведут к крови. В одном из выпусков «Дневника писателя» он прямо заявил, что социализм есть наследник атеистического западного рационализма, стремящегося заменить Бога земным благом. Достоевский рассматривал европейский социализм как ересь, рожденную духом католицизма, который, по его мнению, тоже поставил мирское царство выше небесного. Такая острая критика была продиктована у него не равнодушием к судьбам бедных – напротив, сострадание к “униженным” всегда горело в нём. Но он верил, что без Христа любовь к людям превращается во власть и гнет. В легенде о Великом инквизиторе (вложенной в уста Ивана Карамазова) Достоевский с невероятной силой показал, как во имя “хлебов земных” и порядка можно распять самого Христа. Это предупреждение и к революционерам, желавшим счастья насильно, и ко всем идеологиям, что отнимут у человека свободу, обещая сытость.
После потрясений 1860-х Достоевский стал политически более консервативен, но в своём особом, “русско-христианском” ключе. Он искренне почитал монархию, видя в царе не деспота, а отца народа. Его последние великие романы – это поиск богоносного начала в русском народе и утверждение, что только через смирение и всепрощение общество спасётся от катастрофы. В 1880 году на пушкинском празднике Достоевский произнёс пламенную речь, где противопоставил русский всечеловечный путь – гордому европеизму. Он провозгласил, что русский человек станет истинно всемирным братом, приняв Христа с любовью. Тысячи слушателей тогда плакали и ликовали – речь прозвучала как пророчество о грядущем единстве людей в духе Христа. Однако, как тонкий психолог, Достоевский понимал и слабости “почвенного” идеала: слепая вера без критического мышления тоже чревата мраком. Его публицистика полна горькой иронии над показным благочестием и рабьим обожанием власти. Он хотел не фанатизма, а сознательной, свободной веры.
Свобода личности была для него священной ценностью – той самой, которую не смог отнять Инквизитор у Христовой души. “Богу нужны свободные поклонники”, – писал Достоевский, споря с теми, кто готов променять свободу на “тишину и хлеб”. Его политический идеал парадоксален: православное братство людей во имя любви, где каждый свободно творит добро, – своего рода небесная демократия духа. Конечно, в реальной жизни всё оказалось сложнее. Но Достоевский сумел гениально отразить трагедию российского сознания XIX века: разрыв между западными идеями и родной верой, между жаждой революции и тоской по духовности.
Свобода, грех и искупление: моральная философия
Что есть человек и где границы его свободы? Этот вопрос пропитывает всё творчество Достоевского. Он рассматривал человека как поле битвы между добром и злом, и главное – предоставил своим героям небывалую свободу воли. В мире Достоевского человек радикально свободен, может вознести себя до святости или низринуть до демона. Отсюда – пугающая возможность: если Бога нет, то всё позволено.
Эта формула, обычно связываемая с Иваном Карамазовым, стала крылатой. Достоевский вложил её в уста одного из своих самых мыслящих героев не случайно. Он сам прошёл через период, когда вера шаталась, и познал соблазн вседозволенности. В романе «Преступление и наказание» молодой интеллектуал Раскольников решает, что ему “всё разрешено”, и совершает убийство, испытывая свою свободу на прочность. Но результат – не сверхчеловек, а полное духовное крушение героя. Достоевский показывает, что грех (преступление) не просто социальное зло, а мука для самой души человека. Совесть Раскольникова, порождённая “русским Богом” внутри него, не даёт ему покоя, превращая жизнь без Бога в ад на земле. И лишь пройдя через смирение и страдание, герой обретает очищение. Эта идея искупления через страдание – краеугольный камень нравственной философии Достоевского. “Страдания наши – радости наши”, – говорит один из братьев Карамазовых. Свобода без любви ведёт к катастрофе, но свобода, принятая с добровольным согласием на моральный закон (данный свыше), возвышает человека.
Достоевский убеждён: не существует человека без греха, без “подполья” в душе. Его самые праведные герои – Алёша Карамазов, Соня Мармеладова – не безгрешны, но они смиренно принимают чужую вину на себя, “умирают за всех” по христианскому примеру. А его самые падшие герои – Старец Зосима вспоминает разбойника, Раскольников – вдруг находят в себе слёзы раскаяния и жажду добра. В этих контрастах – вся диалектика достоевской морали. Нет окончательно плохих людей и нет абсолютно хороших – всё смешано, и потому милосердие необходимо. Греховность неотделима от свободы: человек свободен согрешить, но также свободен и раскаяться. Этим Достоевский возражает рационалистическим моралистам, утверждавшим, что просвещение сделает людей добродетельными. Нет, отвечает он, без духовного возрождения знания лишь увеличат гордыню.
Одним из самых глубоких философских образов у Достоевского стал “человек из подполья” – маленький чиновник, который упрямо утверждает свою свободу делать назло даже самому себе. Этот гротескный герой “Записок из подполья” (1864) бросает вызов всем утопистам: он доказывает, что нельзя человека запереть в формулу благополучия, потому что в нём живёт иррациональное начало – желание свободы, даже во зло. “Дважды два – четыре – уже не жизнь, господа, а начало смерти”, – провозглашает подпольный человек, имея в виду, что чистый рационализм убивает дух. Этой парадоксальной антилогикой Достоевский предвосхитил экзистенциалистов XX века, которые тоже утверждали первичность свободы выбора над любыми системами.
Великая моральная интуиция Достоевского – мысль о том, что каждый человек за всех виноват. В финале «Братьев Карамазовых» Алёша объясняет детям, что мы все перед друг другом в ответе за грехи и за добро. Такая этика соборности противоположна западному индивидуализму. Достоевский страстно верил: спастись можно только всем вместе, через любовь, прощение и сознание общей вины. Отсюда же его известная фраза: “Красота спасёт мир”. Под красотой он понимал преображённую духовную красоту человеческой души, которая исцеляет зло.
В публицистике и письмах последних лет Достоевский пророчески указывал, что без нравственного закона свобода вырождается. Он сожалел о падении нравов, о росте цинизма среди молодёжи. Он видел, как европейский нигилизм разрушает традиционные устои, и в то же время понимал, что Россия не может закрыться от мира. Поэтому он призывал к возрождению духа, к обращению к евангельским истинам на новом, сознательном уровне. В этом смысле его философия – экзистенциальная теология: человек должен сам найти Бога в сердце, пережив “крушение всех церковных истины вне себя”, но сохранив Христову правду внутри. Его герои бесконечно спорят о Боге, но в критический момент либо принимают Его (как Мышкин, Алёша), либо гибнут, не приняв (как Свидригайлов, Смердяков).
Таким образом, философские взгляды Достоевского многогранны: это и глубокая христианская вера, и одновременно понимание абсурда и бездны при отсутствии веры; это защита свободы личности, но и предупреждение о её тёмной стороне; это любовь к народу, но без идеализации его пороков; это надежда на братство людей, но через искупление, а не через революционное насилие. Он не был кабинетным философом, но живым мыслителем, проверившим идеи на собственной крови. Потому каждая страница его дневников и писем дышит подлинностью: будь то восторг перед красотой Евангелия или гневная тирада против очередного лже-пророка. Достоевский дал нам не систему, а пророческое предчувствие: в грядущем веке человечеству предстоит ужасная борьба за душу – между богоборческим рационализмом и духовной жаждой. И это предчувствие сбылось, как мы знаем из истории XX столетия.
Глубина и новаторство его романов
Стиль и полифония: многоголосый мир
Литературный гений Достоевского выразился не только в идеях, но и в уникальной художественной форме. Его романы – словно живые организмы, где множество голосов спорят, кричат, шепчут одновременно, образуя объёмную картину сознаний. Советский литературовед Михаил Бахтин назвал эту особенность полифонией. “Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основною особенностью романов Достоевского”, – писал Бахтин. В отличие от традиционного романа, где автор всеведущ и ведёт героев, как марионеток, у Достоевского каждый главный герой – сам автор своего слова. Рогожин, князь Мышкин, Иван и Алёша, Раскольников – все они говорят как бы из своего собственного мира, и эти миры сталкиваются, не сливаясь. Автор уже не судит своих персонажей свысока – он позволяет им проявить свою истину до конца. Оттого диалоги у Достоевского превращаются в драмы идей, а монологи персонажей – в философские исповеди.
Стиль Достоевского узнаётся сразу: накал эмоций, стремительные, лихорадочные диалоги, внезапные паузы и недосказанности... Его фразы порой ломаются, текут через точки и тире, передавая лихорадочный ритм мысли героев. Он использует множество эллипсисов (пропусков слов), восклицаний, вопросов – текст как будто дышит. Это стиль нервный, электрический, под стать его тематике. Критики замечали, что чтение Достоевского похоже на переживание бури или сна наяву. Вирджиния Вулф образно говорила: его романы – это “кипящие водовороты, песчаные вихри, смерчи, состоящие из материала души”.Нас затягивает в этот водоворот, мы потеряны и ослеплены, но чувствуем странный восторг.
Такая эмоциональная насыщенность прозы была нова для XIX века и предвосхитила модернистские эксперименты с потоком сознания.
Отдельно стоит упомянуть символизм Достоевского. Хотя его обычно относят к реалистам, в его произведениях реализм часто переходит в область символического, пророческого. Его Петербург – не просто город, а символ духовного состояния (то мрачное “подполье”, то место искупления на перекрёстках). Сны персонажей – важнейшие символические эпизоды: кошмар Раскольникова о загнанной лошади предвосхищает его преступление и всю идею о жертвах “теории”; сон Свидригайлова о девочке намекает на гибель его души; видение Ставрогина с “матушкой природой” раскрывает его опустошённость. Достоевский вводит и яркие библейские аллюзии: имя Сонечки Мармеладовой (София – мудрость Божья), история Лазаря, которую она читает убийце Раскольникову, образ Христа и дьявола в диалогах Ивана Карамазова. Всё это придаёт его романам глубину притчи. При этом символы у Достоевского всегда двусмысленны, как жизнь: они не морализуют, а ставят вопросы. Например, крест – символ веры – фигурирует постоянно (Соня даёт Раскольникову целовать крест на каторге), но будет ли герой спасён – не дано ответа однозначно, это процесс, тайна.
Ещё одна особенность стиля – гротеск и сатира соседствуют с трагизмом. Многие сцены у Достоевского на грани фарса: беспощадно смешон бес в «Бесах», карикатурен пустослов и либерал Степан Трофимович, гротескны повадки генерала в «Идиоте». Достоевский умел показывать нелепость и уродство порока, высмеивая его даже сквозь слёзы. Такой двуострый тон – смеяться и плакать одновременно – роднит его с Гоголем (которого, кстати, Достоевский почитал учителем и в юности его прозвище было “новый Гоголь”).
Но если Гоголь чаще отдавался смеху, то у Достоевского смех замирает перед лицом бездны: гротеск внезапно оборачивается метафизическим ужасом. Вспомним сцену помешательства Свидригайлова перед самоубийством – он видит привидения, какие-то галлюцинации, вроде бы смешно и страшно разом, а затем – выстрел, и всё кончено. Такой надрыв – ещё одна примета его стиля. Достоевский писал, что “идеалы и бездны” сменяют друг друга в русском человеке, вот и его проза мечется между надрывным пафосом и обессиленным смешком.