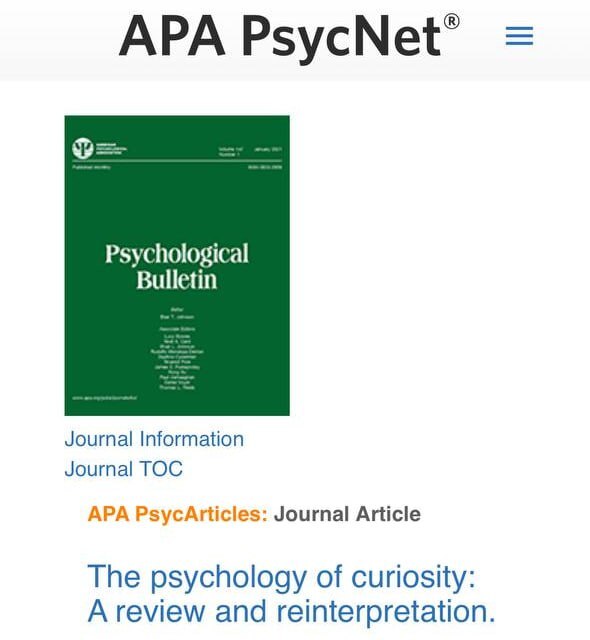Проблемы неговорящих послушных детей
Я логопед, учу говорить неговорящих детей. Писать по плану у меня не получается, поэтому сегодня на статью меня вдохновил Егор. Егору пять лет. Он такой серьезный, как будто депутат. Очень обстоятельный малыш. Еще отличает его от многих других детей то, что он сидит за столом. С трех лет. Без уговоров и требований, сам садится и сидит. Даже если предложить ему поиграть, попрыгать, побегать – не пойдет. А задания будет делать. Чудо-чудное? О, я сейчас вам расскажу, что не так.
Егор пришел в три года на АВА-терапию (это занятия по работе с поведением и по формированию навыков). Он пришел без речи, даже слов не было, они занимались работой по имитации, пониманию речи, вызову звуков. Мы познакомились с ним уже в 3,6 года.
Очень хорошо помню нашу первую встречу. Егор был очень серьезен, внимательно на меня смотрел, хорошо выполнял все мои инструкции.
С одной стороны, наверно, это выглядит очень хорошо. Послушный малыш. Сидит. Молчит. Все делает. Сортирует по цветам и формам. Знает много существительных. Пытается как-то одним слогом наименовывать. А знаете, чего у него нет? Нет инициативы. Нет спонтанности. Он не просит конфету. Не просит машинку. Не пытается со своего стула встать и проявить любую активность, свойственную детям. Психиатр посмотрел на это дело и поставил ему РАС (расстройство аутистического спектра).
Хотя вы никогда бы не догадались, что-то не так. Наоборот, порадовались бы. Послушный, хороший, симпатичный. Хорошие когнитивные навыки. Все делает. Плохого поведения нет. Но не спонтанный и не говорит почти, кроме того, что АВА вытащила.
Итак, с чего надо начать? Первым делом АВА начала вытаскивать его со стульчика.
Знаете почему он избегает движений (хотя физически никаких проблем нет)?
У Егора повышенная вестибулярная чувствительность – это тенденция отрицательно и эмоционально реагировать на изменения в гравитации и положении тела. Дети интерпретируют эти изменения как потенциально опасные.
В чем это проявляется? Егор не любит, когда его подкидывают или кружат – начинает плакать. Избегает прыжков, держится подальше от батутов и качелей, не любит горки. Или, может залезть на батут, но прыгать не станет, походит и слезет. Вообще прыгать не умеет, даже на месте. Таких детей может укачивать в транспорте, они стараются держаться подальше от детских площадок, чтобы не смотреть, как кто-то кружится или качается.
На самом деле и взрослых таких достаточно. Но взрослые говорить уже умеют, а Егор нет, так что учим его двигаться. Речь обслуживает деятельность. У тех неречевых детей, кто не любит двигаться, потом бывает очень плохо с глаголами.
Итак, Егор учился делать зарядку по образцу, играть в подвижные игры. Это его немного расшевелило. Потом еще к нейропсихологу пошел, еще получше стало. Речь потихоньку шла. Не спонтанная еще, но уже что-то было. Отвечал на вопросы, комментировал картинки.
А потом грянуло четыре года. В три-то года речи не было. А к четырем она появилась. И грянул он. Кризис «Я САМ». Из послушного ребенка он превратился в маленького демона. Было невозможно ему помочь. Он не принимал помощи. Надевал еле как свитер, путался в нем, со слезами истошно кричал: «Я сам!» и пытался как-то победить несчастный свитер. На занятии не давал мне рисовать. Иногда я рисую что-то на доске или в альбоме для детей. Егор отбирал фломастер, кричал « Я САМ!» и сидел с ним, потому что нарисовать не мог, так как не знал что. Если я закрывала книгу или поднимала что-то, он возвращал все как было, а потом делал сам. То есть открывал книгу, потом сам закрывал. Снова ронял игрушку, потом сам поднимал. Я на своем занятии буквально ничего не могла делать, он воспринимал это посягательством на его свободу и границы.
Если честно, я радовалась. Радовалась, что этот кризис происходит. Что его личность развивается. Что он перерос старые правила и требует установления новых, с учетом его потребностей. Я радостно сказала ему, что теперь он делает все сам. Вручила ему в руки фломастер. И он начал копировать то, что я рисую. Сначала нарисовал, потом рассказал.
Еще я начала хулиганить. Ронять вещи на пол. Разливать воду. Рвать салфетки. И вложила ему в уста формулу: Ты уронила «предмет», а я поднял. Ты разлила воду, а я вытер. Ты порвала салфетку, а я выкинул.
Вы бы видели эту гордую физиономию. Он попал в ситуацию, в которой он все делает САМ и он главный. Потом мне рассказывали, что он перенес этот навык в другие локации, и домой и на АВА, там комментировал действия другого человека, свои действия и заодно делал уборку. Я кстати пыталась перевернуть фразу: «я уронил, а ты подняла» - но не получилось, он все отбирал и поднимал сам.
Кризис был очень яркий, длился три месяца по моим субъективным ощущениям. Мы его пережили и выдохнули.
Сейчас мы занялись наречиями. Ему это понравилось безумно. Потому что такие наречия как высоко/низко, далеко/близко, он уже знал, мы занялись чем-то посложнее. Ну и я опять начала хулиганить.
Например, я нарисовала два шарика. Один раскрасила соблюдая границы. А второй как курица лапой.
- Света, ай-яй-яй, это неаккуратно (показывает пальцем на первый шар);
- Света, ты раскрасила аккуратно (показывает на второй шар).
Или я накидала кубики в коробку – «Света, ты плохо собрала кубики», или сложила: - «Света, ты хорошо собрала кубики».
То есть для каждого действия я дала ему эталоны: «хорошего» и «плохого» выполнения. Чтобы он понимал, что значит «раскрашивай аккуратно» или «делай уборку хорошо».
Теперь этот тип приходит ко мне в кабинет, кладет стул на пол и заявляет: Света, ты уронила стул, это плохо! Надо поднять!
Если исключить подлог и клевету, что мы видим? Спонтанность. Он говорит сам то, о чем его никто не спрашивал. Пусть неуклюже, но создает и комментирует ситуацию, которой до его прихода не было! То есть он все это время помнил и нес это в памяти, чтобы в это поиграть.
Сейчас еще научу его брать ответственность за действия на себя и не клеветать на логопедов, и совсем станет хорошо. Теперь сюда просится просьба. Надо добавить еще одно звено, чтобы он мог заявить о своей потребности. Например:
- Света, давай поиграем.
- Света, давай делать уборку. - Света, к вам приехал ревизор
Что еще появилось у Егора? Эмоциональный отклик на истории. Он сам начал выбирать, про что будет рассказывать. Его самая любимая история – про гусят.
- Света, давай про гусят!
достаю картинки.
- Гусята пошли гулять (тихо говорит Егор)
- К гусятам крадется лиса (Голос полный предвкушения)
- Собака прогнала лису (Громкий и счастливый голос)
Его глаза сияют, добро победило зло. Возможно, где-то там, в глубокой норе, маленькие лисята остались без ужина, но это уже совсем другая история. Главное, что здесь и сейчас все хорошо.
Ребенок начал чувствовать соль истории. Видеть ее связность. Завязку, сюжет. Эмоционально реагировать на кульминацию. Он не просто механически запоминает, он с замиранием сердца ждет, когда что-то случится.
Я думаю, что аутистические черты были вторичными. Не было спонтанности, так как не было понимания речи. Не было умения построения фразы, не было навыка просьбы. Сейчас все это активно появляется и черты уходят. В планах, сделать речь более выразительной, добавить в его просьбы прилагательные: «мама дай маленькую ложку», «Света, надувай огромные пузыри», научить его следить за собой и контролировать свои действия: «я аккуратно раскрасил», «я хорошо вытер стол», «я быстро собрал кубики».
Также, у Егора уже получается читать, писать и рисовать. До школы еще два года, еще многое успеем.