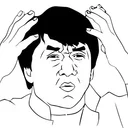Так как я была ещё несовершеннолетней, мама оформила доверенность для Милы, чтобы в Германии она могла быстро получить опеку надо мной. В Германии Мила встретила меня вместе со своей семьёй. Мила — верующий человек, как и вся её большая семья. У неё десять детей, а у старших уже есть свои дети. К счастью, со мной жили только трое несовершеннолетних детей Милы. Старшие жили отдельно, хотя часто навещали маму. Но даже это было много.
Для меня, интроверта, это был настоящий кошмар — да ещё и с постоянным вниманием и попытками верующих затянуть меня в церковь при любой возможности.
Для меня всё было очень тяжело. Незнакомая обстановка, другой менталитет, сложный иностранный язык. Слишком навязчивые верующие. Поддержки у меня не было. Мила с детьми тогда недавно переехала в Германию, и ей не хватало сил на всех детей. Нужно было оформить много документов для легального пребывания в стране.
Поскольку я ещё считалась ребёнком, безработной и без образования, в Германии мне положили пособие, чтобы я могла как-то жить и обеспечивать свои нужды. Пособие мне платили отдельно, а тёте и её детям — вместе на один счёт, так как она была их матерью.
С детьми Милы у меня были нейтральные отношения. Так как это были самые младшие из её детей, разница в возрасте между нами была минимальной: Лилии было 16, Лере — 15, а Диме — 14. Мила была вдовой и, как мне казалось, слишком мягкосердечной. Воспитание младших детей сильно отличалось от того, что получили её старшие, когда ещё был жив её муж. Он, по словам Милы, строго следил за дисциплиной.
Меня шокировало, что дети называли Милу по имени. Для меня, воспитанной в другой среде, это было дико. Мама и папа развелись, когда я с братом Ильёй были ещё маленькими, и нас в основном воспитывали бабушка с дедушкой — потому что мама много работала, чтобы нас обеспечить, а отец не платил алименты. Воспитание у нас было строгое. Я даже представить не могла, чтобы назвала маму по имени — за такое мне точно обеспечили бы ремень.
В общем, воспитание младших детей у Милы было… как попало. Она была очень мягкая, наивная, и казалась будто бы живущей в каком-то своём мире. Она не умела наказывать детей, даже когда это было необходимо. А они уже просто не воспринимали её всерьёз, манипулировали ею, сели ей на шею и свесили ноги.
Я старалась хоть как-то ей помочь. Видела, как больно ей бывает, как дети делают ей только хуже. А у неё и так здоровье было слабое...
У меня были близкие отношения с Лилией. Несмотря на её противоречивый характер, она была надёжным другом. Мы не стали лучшими подругами, но до сих пор поддерживаем дружеские отношения и проводим время вместе.
Лилия никогда не хотела быть верующей, но, родившись в такой большой и религиозной семье, у неё просто не было выбора. Из-за этого она временами была невыносимой — напряжённой, раздражённой, вспыльчивой. Но после того, как она переехала от Милы и начала жить своей жизнью, никто больше не заставлял её ходить в церковь. Ей стало гораздо легче, и я искренне рада за неё.
Мы сошлись именно на этой почве. Пока я жила с верующими, каждую неделю меня пытались затащить в церковь. Я всегда отказывалась, но никто никогда не оставлял попыток. Это вызывало у меня только большее отторжение.
По воскресеньям мы с Лилей старались уходить гулять на весь день без телефонов — лишь бы не попасть на очередную церковную службу. Так мы и сблизились. И я благодарна ей за то, что она была рядом в тот сложный период моей жизни.
Живя с Милой и её детьми всё дольше, я начинала всё яснее видеть, каков её характер на самом деле. Сначала я не могла понять, откуда у её детей такой «талант» к манипуляциям над людьми — ведь Мила казалась такой мягкой, а её покойный муж, по её же словам, был строгим. Но потом я поняла: это у них от неё.
Мила настолько привыкла носить маску доброй, улыбчивой женщины, что я не сразу это заметила. Хотя я всегда была очень чуткой к людям и обычно чувствовала — хороший человек передо мной или нет. Мама часто говорила, что у меня будто бы есть интуиция: я сама того не понимая чувствовала, кто «нечист на руку».
Раньше она удивлялась, почему я язвительно или грубо реагирую на некоторых её новых знакомых — пока они не показывали своё настоящее, гнилое нутро. Тогда мама начала мне доверять: я, неосознанно, просто оберегала себя.
С Милой всё было сложнее, противоречивее. То ли стресс от переезда в другую страну, то ли постоянное давление со стороны верующих и их попытки затащить меня в церковь — я не сразу почувствовала, насколько она двулична. Это стало понятно только позже, когда я начала замечать её тонкие, но настойчивые манипуляции.
Так как в квартире, где мы жили, единственным парнем был 14-летний Дима, мужчин в доме, по сути, не было. А моих навыков — заменить лампочку, подкрутить болты в шкафу или собрать мебель (спасибо деду за походы в гараж и сарай, чтобы мы с братом не остались без присмотра) — было недостаточно.
А поскольку верующие люди в целом очень добрые, ими, увы, довольно легко манипулировать.
Когда у нас возникли проблемы с краном на кухне, Мила позвонила одному мужчине из церкви — Вите — и попросила помочь. Он с радостью согласился. Поскольку я делила с Милой комнату, я поневоле была слушателем всех её телефонных разговоров — она часто говорила по громкой связи, и хочешь ты того или нет, а слышишь всё.
Вот тогда я и начала замечать её манипуляции. Мила "просила" Витю отвозить её по магазинам, заезжать за продуктами, возить в церковь и помогать с разными «мужскими» делами по дому. Мне было даже жаль его. Он, похоже, не понимал, что его используют.
Я, честно говоря, даже обрадовалась, когда он стал постепенно отдаляться — особенно после того, как старшая дочь Милы, Маргарита, пыталась их свести, чтобы Мила, возможно, вышла за него замуж.
Прошёл год с тех пор, как я начала жить с ними. Мне исполнилось 18. Мои документы всё ещё оставались у Милы, потому что я была слишком занята подготовкой к экзаменам и не могла разобраться с бюрократией в Германии.
В один из месяцев мне не пришло пособие. Поскольку большую часть времени я проводила на учёбе, Мила пошла разбираться, в чём дело. Тогда выяснилось, что мой паспорт просрочен, а значит, выплаты прекратились.
Паспорт был у Милы, и я не знала, когда истекает срок его действия. Мне пришлось ехать в посольство за её счёт, чтобы оформить новый паспорт. Деньги на сам паспорт скинула мама — я старалась не просить у неё деньги и не соглашалась, чтобы она их переводила, понимая, что ей они нужнее, ведь здоровье моей прабабушки ухудшалось, а у моего брата диагностировали гастрит.
Период без паспорта совпал с отсутствием выплат пособия. А после получения нового паспорта из-за немецкой бюрократии прошло около месяца, а может и больше, прежде чем мне снова начали платить. Всё это время меня содержала Мила.
Каждый месяц я давала ей часть пособия — достаточно крупную сумму — на продукты и бытовые нужды: стиральный порошок, бумажные полотенца и прочее. Но она поставила меня на счётчик, требуя позже вернуть эти деньги. Это было очень обидно. Человека, которого я считала родным, интересовали деньги, хотя я никогда не брала с неё и её детей ни цента, когда платила за них сама.
Отношения между нами стали портиться, особенно когда Мила предъявила мне сумму, которую, по её словам, потратила на меня за время отсутствия моего пособия.
Из-за быстро портящихся отношений, связанных с деньгами, я съехала от Милы и переехала в соседний город в съёмную квартиру. Государство оплачивает её до тех пор, пока я не закончу учёбу и не выйду на работу. Правда, значительная часть пособия всё равно уходила на оплату квартиры, так как хозяин поднял плату за отопление.
Я потихоньку начала возвращать долг Миле. Суммы были небольшими, и она не торопила меня — это было для меня облегчением, хотя мне было больно и обидно из-за того, как она со мной поступила. Всё было тихо и спокойно. Я пару раз в неделю звонила ей и навещала примерно раз в месяц, чтобы отдавать деньги.
Тишина длилась до того момента, пока мама не рассказала Сергею, что Мила выставила мне долг — а сумма оказалась четырёхзначной. Я просила маму не рассказывать Сергею, не хотела, чтобы он ссорился с Милой, ведь знала, что ему это не понравится. Но мама случайно рассказала, и Сергей узнал.
Он был, мягко говоря, недоволен тем, как поступает его сестра, но молчал — пока на одном из праздников, немного выпив, эта тема снова не всплыла...
Однажды ночью меня разбудил звонок от Милы. Я помню этот разговор — каждое слово, даже спустя столько времени. Мила была зла, плакала и называла меня сукой и тварью. Она обвиняла меня в том, что я настраиваю её родного брата против неё. Говорила, что я могу подавиться этими деньгами и что больше с меня ни цента не возьмёт.
На меня вылилось столько гадких слов и обвинений — я была для неё самой плохой тварью. Это было ошеломляюще — слышать такие слова от человека, которого я считала близким, да ещё и верующего.
Когда звонок закончился, я сразу же позвонила маме, чтобы узнать, что происходит и зачем все эти обвинения. Она всё мне рассказала.
Пьяный Сергей — очень прямолинейный человек, который никогда не сдерживает слов. Но он всегда человек слова и держит свои обещания, даже если говорит это в пьяном состоянии.
Он позвонил Миле и высказал всё, что думает по поводу этой ситуации. Сергей обвинил Милу в том, что это её вина — она не досмотрела за моими документами, ведь это её обязанность как опекуна. Он был недоволен тем, что она выставила долг его дочери, хотя всегда помогал Милe безвозмездно и заботился о ней, а она так плохо поступает с его ребёнком.
Он сказал, что поможет выплатить долг, но после этого у него больше не будет сестры.
Вся эта ситуация разбила мне сердце. Не просто огорчила — выжгла изнутри. Мне было так больно, что временами казалось: я задыхаюсь. Я пыталась ещё раз поговорить с Милой. Пыталась спасти хоть что-то. Хоть какие-то остатки нашей связи. Но в ответ услышала только ещё больше обвинений. Ещё больше злых, колючих слов, которые рвали меня на части. Это было, как будто меня медленно режут ножом, и с каждой фразой заносят лезвие глубже.
Она — человек, которого я считала родной душой. Та, за кого я держалась здесь, в этой чужой стране, когда сама падала. Я заботилась о ней, вытаскивала, поддерживала. Защищала от её же детей, когда они пользовались её мягкостью и доверием. Я делала это не ради благодарности, а потому что верила: мы — семья. А теперь... теперь я для неё просто жадная, бессердечная сука, которой наплевать. Неужели я действительно такая? Являюсь ли я чудовищем, которого она в гневе рисует в своих словах?
Единственным человеком, кто действительно поддержал меня тогда, была Лилия. Она пыталась смягчить ситуацию, как-то сгладить конфликт между мной и Милой. Но всё уже было разрушено. Ничего не осталось — ни доверия, ни желания строить мосты.
После того звонка я больше не слышала от Милы ничего, кроме попыток снова втянуть меня в прежнюю игру — её сообщения, звонки, слёзы на голосовых, где она просила помощи, жаловалась на жизнь. Но я молчала. Я больше не могла. У меня не осталось сил снова быть для неё удобной. Я просто отключилась.
Это решение далось мне тяжело, но я знала — назад пути нет. Этот человек причинил мне слишком много боли.
Я пишу об этом сейчас, потому что надеюсь: может, когда я поделюсь этим, когда откроюсь и позволю себе проговорить это вслух, пусть и на письме — мне станет хоть немного легче.