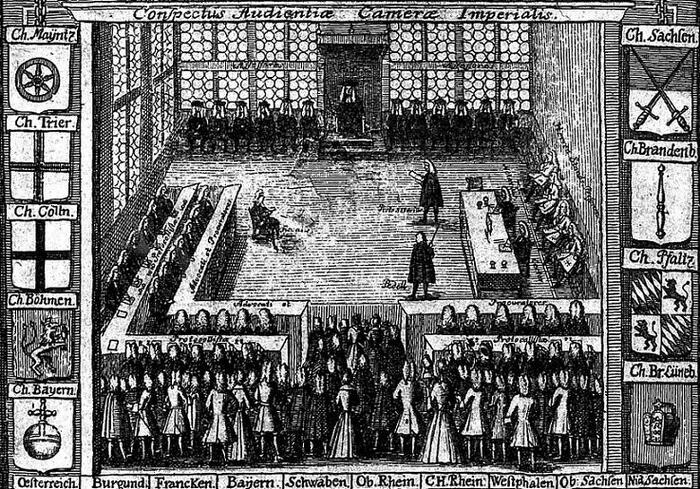САМОЕ СЛОЖНОЕ ПРАВИЛО русской орфографии — ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ? Детектив из истории языка
Написание одной или двух Н в прилагательных и причастиях — это самое сложное правило русской орфографии. Оно являет трудность как своим объёмом, так и нелогичностью.
Полагаю, иные из вас пытались разобраться в правиле самостоятельно ради грамотного письма и хороших оценок в школе… Но многие ли задавались вопросом: а почему же правило вообще так хитроумно, каково есть?
Общие соображения подсказывают, что сложная система не могла возникнуть единовременно и на голом месте. Некогда, вероятнее всего, это место русской орфографии было устроено просто и интуитивно ясно…
Так ли это на самом деле? Почему правило об одном-двух Н стало самым сложным? Кто его придумал? Были ли для него такого внутриязыковые основания, или же правило — казус сугубо орфографической мысли? — на все эти вопросы пытливым умам и даёт ответы сегодняшнее видео!
Как найти дату и место рождения праиндоевропейского языка
Сразу предупреждаю, что тема не такая же простая и очевидная, как дважды два четыре, поэтому можно и не соглашаться. Но мне они кажутся логичными, тем более что лингвистические данные в науке всегда проверяются и дополняются археологическими и генетическими находками.
В университете нам о праиндоевропейском толком и не рассказывали - латынь изучили, и слава богу. Но, к счастью, мой научный руководитель историю языков обожал и регулярно упоминал всякое такое, благодаря чему уже значительно позднее мне было на что опираться, изучая этот вопрос самостоятельно.
Для того, чтобы определить когда сложился праиндоевропейский язык, нам нужно найти те слова, которые есть (или были) в большинстве индоевропейских языков. Наличие такого слова будет говорить о том, что оно существовало, причем в том же значении, в самый ранний период существования праиндоевропейского языка. А определив предмет, который оно обозначало, можно проводить сравнение с данными археологии.
Это называется лингвистической палеонтологией, или, проще, "методом слов и вещей". Например, мы точно знаем, что праиндоевропейский язык появился и распался до появления железной металлургии. Мы это знаем потому, что слово "железо" в индоевропейских языках происходит из разных исходных корней.
Например, в английском это "iron", от *isero- с семантикой "сильный", "прочный". В латыни "ferrum" - это вообще семитское заимствование. Русское "железо", полагают, происходит от корня *gel с семантикой "камешек", "костяшка", от которого также появились "глаз", "голова" и "желвак".
Думаю, очевидно, что если каждое ответвление индоевропейцев осмыслило железо настолько по-своему, это значит, что когда они ещё были более или менее единым народом, такого предмета (а значит и слова) у них в обиходе не было.
А вот что было, так это шерсть - *h₂welh₁-.
Потомки этого слова есть и в германских (например, англ. "wool"), и в романских (исп. "vello"), и в славянских языках (рус. диал. "волна", которая не морская, а так кое-где кое-когда называли овечью шерсть, с ударением на "о").
Возможно, это слово родственно и словам, означающим "овцу", которые происходят от *h₂ówis. Это было бы логично, ведь и выглядят корни похоже, и получали шерсть как раз от овец.
По данным смежных наук мы знаем, что овцу одомашнили около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, но в то время от них получали мясо, молоко и шкуры. А вот шерсть именно как продукт для изготовления нитей, тканей и одежды появилась в 4-6 тыс. до н.э.
Определить это можно было достаточно просто - по находкам шерстяных вещей (неожиданно), и по останкам овец, а именно, по возрасту убитых животных. Восемь, десять тысяч лет назад это были в основном молодые особи, а потом стали значительно чаще попадаться пожилые. Их явно бы не стали кормить и содержать долгие годы просто в качестве домашних любимцев, значит скорее всего они приносили пользу, и с высокой долей вероятности это была именно шерсть.
Другой пласт общей индоевропейской лексики - всё, что связано с колёсами и повозками.
Это и *kʷékʷlos - "круг, колесо" (отсюда, например, "цикл"), и *Hreth₂- "ехать, крутиться, бежать" (отсюда "ротация", "ротонда"), и *h₂eḱs- - "ось", и *weǵʰ- - "повозка" (отсюда "вагон" и наш "воз").
Определить возраст самых древних найденных в раскопках деревянных колёс нетрудно, дерево поддаётся радиоуглеродному анализу, и это... четвёртое тысячелетие до нашей эры. Получается, что и шерсть, и колёса привели нас в эту дату.
А теперь нужно определить, где это было, где шесть тысяч лет назад жили эти люди, разводившие овец и разъезжающие на повозках?
Ну, как минимум, вряд ли они были горцами, тогда бы им не пришлось изобретать повозку для путешествий на дальние расстояния. Впрочем, будем проверять. А то всякое может быть.
Средиземноморье?
Сразу нет, потому что для праиндоевропейского языка не восстанавливается единый корень для таких типичных в этом регионе понятий, как кипарис, лавр, маслины, осёл, виноград.
Тропики?
Тоже нет, в виду отсутствия слов для обезьяны, слона, пальмы.
Балтика?
Минус, потому что не было слова для обозначения янтаря.
Лексика, связанная с мёдом и пчёлами, исключает Сибирь и Центральную Азию, потому что к востоку от Урала медоносные пчёлы не водились.
Невероятная важность лошади в языке, культуре и религии исключает Индостан, Ближний Восток, Иран и Балканы, потому что шесть тысяч лет назад лошади водились преимущественно в степях Евразии, а не в этих регионах.
Наличие таких слов как выдра, лось, бобёр, рысь, берёза, говорит о том, что жили праиндоевропейцы в умеренном климате, в средней полосе, так сказать.
Долгое время считалось, что прародиной является север Европы. В эту пользу говорили "аргумент лосося" и "аргумент бука". Эти слова действительно сегодня восстанавливаются для большинства (*loḱs и *bʰeh₂ǵos), а лосось и бук были распространены на территории современных Германии и Польши.
Однако сейчас оба этих аргумента признаны несостоятельными (или, скорее, недостаточными), поскольку вовсе не факт, что именно лосось и именно бук всегда назывались этими словами. В те времена племена кочевали, поэтому в одном месте могли называть каким-то словом одну рыбу, а в другом - другую, похожую или даже не очень похожую (лосось, форель, горбуша - название могло переходить с одного вида на другой). А могли называть этим словом всю рыбу вообще. Так же и с буком. Если мы делали тут копья, луки и повозки из дерева под названием бук, а потом переехали, и стали делать всё это из другого дерева, какого черта мы должны придумывать новое название? Можем, но не обязаны. Пускай это тоже будет бук.
Поэтому ни один аргумент, связанный с каким-то отдельным словом, тут работать не может, мы должны учитывать все факты сразу.
И вот ещё один лингвистический аргумент - наличие предполагаемых заимствований из протокавказских языков, а значит соседство с Кавказом. Есть также исследования о пересечениях праиндоевропейского с картвельскими и уральскими языками. Это сразу перетягивает прародину ближе к югу и востоку, и мы оказываемся в степях к северу от Черного и Каспийского морей.
На самом деле, мне не хочется давить на какую-то одну теорию, пускай я и пришла, как обычно, к Причерноморью. Мне хотелось описать логику, перечислить аргументы и факты, и дальше лучше пускай каждый сделает вывод для себя. Потому что теорий множество, факты можно интерпретировать по-разному, а то, что написала я - это то, от чего можно лишь оттолкнуться.
«Откладывать в долгий ящик»
Откладывать (отложить, положить) в долгий ящик значит ‘оттягивать исполнение какого-либо дела на неопределенный срок’.
По поводу происхождения этого фразеологизма есть три основные версии. И, как это нередко бывает, самое известное и популярное объяснение на поверку оказывается очень сомнительным.
Ящик для челобитных
Данное объяснение приводится еще в словаре В. И. Даля. В последующие годы XIX–ХХ вв. большинство лингвистов принимали эту версию как истинную. Заключается она в том, что оборот откладывать в долгий ящик возник в период правления царя Алексея Михайловича. В своей резиденции в Коломенском царь распорядился установить специальный ящик, куда желающие могли опускать свои челобитные (письменные жалобы). Ящик будто бы имел удлиненную форму, поэтому его и назвали долгим, т. е. длинным. К тому же после наполнения ящика все челобитные отдавались чиновникам для рассмотрения жалоб, а чиновники, в соответствии с давними традициями бюрократической волокиты, отнюдь не спешили с разбирательствами. Так что ящик в Коломенском был «долгим» по всем параметрам — и по форме, и по времени рассмотрения опущенных в него челобитных. Вот отсюда якобы и пошло наше известное выражение.
Версия, конечно, интересная и запоминающаяся. Однако сомнения по ее поводу появлялись у некоторых исследователей еще в конце XIX – начале ХХ века, поскольку точных исторических свидетельств о существовании коломенского ящика для челобитных не имелось, а происхождение фразеологизма можно было объяснить и иначе. Как? Переходим ко второй версии.
Ящик для судебных документов
Возможно, под долгим ящиком в рассматриваемом обороте поначалу подразумевался рундук. В этих больших ларях можно было хранить очень многое; в старинных русских приказных учреждениях они выполняли одновременно роль скамей и хранилища документов. В них служащие приказов складывали бумаги, а давали делам ход обычно не сразу. Поэтому ящик-рундук и стал называться долгим.
Э. А. Вартаньян, исследователь русской фразеологии, придерживался этой версии, но с некоторыми корректировками. Он считал, что видеть в долгом ящике старинный рундук вовсе не обязательно. Фразеологизм мог зародиться в присутственных учреждениях XIX века, где чиновники раскладывали полученные ходатайства и жалобы по разным коробкам. Долгим могли назвать тот ящик, в котором хранились дела, не требующие немедленного разбирательства. Просители, конечно, очень не хотели, чтобы их документы попали в эту категорию. Ведь «неспешные», по мнению чиновников, дела впоследствии продвигались слишком долго.
Калька с немецкого
Третья версия происхождения фразеологизма убедительно обоснована известным исследователем и популяризатором фразеологии В. М. Мокиенко. Он обратил внимание на несколько деталей, которые раскрывают немало неожиданного о происхождении оборота положить в долгий ящик.
Этот фразеологизм в настоящее время существует только в восточнославянских языках. В украинском языке представлены два варианта этого оборота:
вiдкладати в довгий ящик;
вiдкладати у довгу шухляду.
Слово шухляда означает не ‘ящик вообще’, а ‘выдвижной ящик стола’. Это еще одно свидетельство того, что наш оборот вряд ли имеет отношение к ящику царя Алексея Михайловича в Коломенском. Видится более правдоподобным предположение, что речь здесь изначально шла о канцелярских столах в каком-нибудь «присутственном месте».
Письменные памятники прошлого зафиксировали оборот, аналогичный по значению и структуре русскому отложить в долгий ящик, еще в одном славянском языке — чешском. В нем в XVI в. (как видим, еще до Алексея Михайловича!) было употребительным выражение do dlouhé truhly něco založiti ‘забыть что-либо; отложить какое-либо дело до другого случая’. Буквально оно значило ‘положить что-либо в долгий сундук’ (слово truhla здесь — ‘сундук, ларь’). У лингвистов нет сомнений, что этот старочешский оборот представляет собой кальку (дословный перевод) немецкого фразеологизма in die lange Truhe legen, имеющего такую же буквальную и переносную семантику.
В немецком языке данное выражение фиксируется с XV века. «Немецкий словарь» Якоба и Вильгельма Гриммов сообщает, что оно восходит к средневековому судопроизводству в Германии. Словом Truhe называли большой длинный сундук, ларь. В таких сундуках судебные служащие хранили дела, до рассмотрения которых пока не дошла очередь. Эти лари-хранилища также использовались в качестве скамеек.
В немецком языке выражение in die lange Truhe legen вышло из употребления в начале XVIII в. Но остался не менее давний синонимичный фразеологизм etwas auf die lange Bank schieben ‘откладывать решение какого-либо дела’, буквально ‘подвинуть что-либо на длинную скамью’. Он тоже появился благодаря судам средневековой Германии с их длинными скамьями в виде больших сундуков. Папки с документами можно было класть туда не только внутрь, но и сверху на крышку. Несрочные судебные дела отодвигали на самый дальний край.
Подведем итоги. Можно уверенно сказать, что происхождение фразеологизма откладывать в долгий ящик никак не связано с ящиком для челобитных в Коломне. Это просто легенда, придуманная для объяснения выражения. На самом деле оборот отразил в себе судебные порядки прошлого, только, скорее всего, не российские, а немецкие. В русском языке он фиксируется с середины XVIII столетия. Напомним, что в немецком аналогичный фразеологизм «умер» в начале того же века. Следовательно, калькирование оборота могло произойти не позднее начала столетия — скорее всего, в период реформ Петра I. В то время в русский язык хлынул поток прямых и косвенных заимствований из западноевропейских языков, в том числе очень много из немецкого.
В пользу калькированния, «скрытого заимствования» фразеологизма, кроме названных выше немецких параллелей, косвенно говорят еще несколько фактов. Например, все славянские версии этого оборота обладают жесткой структурой и практически одинаковым и буквальным, и переносным значением. В живой речи у данного выражения очень мало вариантов. Кроме того, оно почти не обнаруживается в народных говорах, что говорит о его книжном происхождении. Все это укладывается в перечень признаков фразеологической кальки — перевода иноязычного фразеологизма.
Таким образом, информация о том, что выражение откладывать в долгий ящик является исконно русским, весьма сомнительна. Скорее всего, перед нами калька с немецкого оборота in die lange Truhe legen.
Вопрос к филологам
Люблю я перед сном пофантазировать и поразмышлять на темы из научной фантастики, так как это помогает не думать о насущном и быстрее засыпается. Особенно нравится путешествовать во времени в разные эпохи. И давно мучает вопрос, как далеко могу прыгнуть во времени назад и понимать русскую речь? Не полностью, но хотя бы на элементарном уровне, когда сама уже может не смогу донести что хочу сказать, но получится угадывать что-то из сказанного мне или услышанного исходя из контекста. Или до какого времени ещё смогу свободно изъясняться? Есть тут филологи или историки? Прям очень интересно узнать! Есть бонус, свободно говорю и читаю на украинском языке.
Язык сакральный: что от него осталось
Первобытный человек, потерянный в огромном враждебном мире, обожествлял всё, что его окружало: солнце, деревья, животных, камни, болезни. Он населял незримыми духами леса и реки. Придумывал ритуалы, призванные умилостивить духов и принести удачу.
Ритуалу обязательно сопутствовало слово. Словесная магия была неотъемлемой частью жизни любого племени. А причиной того, что слово вообще стало иметь отношение к магии было то, что к нему относились не как сегодня, как к названию предмета, а как к части предмета.
Этимология напоминает нам об этой связи: слово "колдун" связывают с литовским "kalba" ("язык"), а "волшебство" и "волхв" происходят от "влъснути" ("непонятно говорить").
Давайте посмотрим, как остатки древней веры в волшебную силу слова незримо присутствуют в наше время.
Одна из древнейших форм словесной магии - проклятие, некое заклинание, призванное наслать на жертву злые силы. Не своими руками, но посредством неких сущностей, человек таким образом обеспечивал другому болезни, увечья, неудачи и даже смерть.
"Чтоб ты пропал!", "Чтоб ты провалился!" , "Пропади ты пропадом!", "Чтоб у тебя язык отсох!" - были одними из самых популярных и простых проклятий, означающим, что жертву должны забрать нечистые силы.
"Черт тебя побери!" - из той же оперы, как и "Иди к черту!"
"Чтоб тебе пусто было!" - пожелание неудач во всех начинаниях.
Узнаёте современное "Чтоб ты сдох!" или просто "Эх, да чтоб тебя"? А бесконечные вариации "Иди ты на..." и "Да пошёл ты..."?
Из страшных проклятий пришли к нам эти выражения, которые мы воспринимаем абсолютно обычными и говорим чуть ли не каждый день.
Кстати, наши предки умели не только проклинать, но и защищаться от проклятий, надо было только сказать в ответ: "Из твоих уст да на твою голову!".
Несколько другим типом словесной магии были заговоры (они же заклятия). Их целью было добиться чего-то для себя при помощи потусторонних сил, например, вылечиться, или увеличить урожай. Изначально они основывались на вере в слово, потом на авторитете божества, и, наконец, на личной силе заклинателя.
Таким образом, сначала заговорами пользовались все и всё время - заговаривали огонь, ветер, зверей, воду, болезни, солнце, грозу, дождь. Но постепенно, с переходом от анимизма к шаманизму, выделился отдельный класс людей, которым эти заговоры были доступны, остальные уже не считали себя способными использовать их, а потом и не знали. Подобная традиция сохранялась в деревнях до 20 века, в каждой жил колдун или колдунья, к кому обращались по всем вопросам.
Пример заговора, чтобы было понятно, что ничего загадочного и необычного в нем нет: "Как на ложках вода не держится, так на рабе Божьем (имя рек) испуг чтоб не держался". Ну и один из самых известных, через который в детстве прошли многие из нас: "Как с гуся вода, так (имя ребенка) вся худоба".
Все мы знаем детские выражения "Чур меня!" или "Чур моё!". Каких только версий нет о том, кто такой этот чур, но может статься, что это тоже был некий дух, к которому прибегали за защитой.
Кроме того, к заговору восходит такой жанр, как считалка. Детские стишки, вроде "Дождик, дождик, перестань" или "Божья коровка, улети на небо" восходят к «взрослым» заговорам. Считалки же, вероятнее всего, восходят к одному из многочисленных видов охотничьей жеребьевки, иногда связанной с гаданием (чёт — нечет, повезет — не повезет), а также с магией, должной принести удачу в охоте. Такие жеребьевки включали в себя пересчет участников, иногда с распределением ролей или функций в совместной охоте.
Представление о том, что слово — это не условное обозначение некоторого предмета, а его часть, заключалось в том, что произнесение ритуального имени могло, по мнению наших предков, вызывать присутствие того, кто им назван. Отсюда у нас до сих пор в ходу выражения вроде "Не буди лиха пока оно тихо!", "Лёгок на помине" и "Типун тебе на язык!"
С этим же связана и идея табу, которая сохраняется и сегодня - не поминать нечистого, например. Да и названия тяжелых болезней многие сегодня опасаются произносить, как будто до конца не уверены, что это асболютно безопасно. Выражения вроде "Накаркала!" всё ещё в ходу.
Может быть, это не столь очевидно, но клятва и присяга - тоже жанры словесной магии. Однако в их истории первично даже не слово, а ещё более древний ритуал, что отражено в их этимологии.
Слово "клятва" родственно глаголам "клониться", "склоняться", что говорит о том, что этот ритуал состоял в том, чтобы наклониться и, скорее всего, коснуться земли.
Слово "присяга" родственно устаревшему глаголу "сягать", который сохранился в формах "посягать", "досягаемый", "осязание". Таким образом мы понимаем, что во время присяги нужно было коснуться некоего значимого предмета.
И до сих пор, когда мы что-то обещаем, и уж тем более клянёмся, мы испытываем потребность совершить ритуальный жест или телодвижение. От прикосновения к груди в области сердца (отсюда выражение "положа руку на сердце" с архаичным ударением на "на") до условного наклона головы. От ритуальных прикосновений сохраняются выражения "бить по рукам" (или просто "по рукам"), и слово "обручение", тоже от слова "рука" - обещание вступить в брак, тоже в некотором смысле присяга.
Все эти ритуалы и магические формулы повторялись веками, потому что так делали отцы и деды. Они теряли магические мотивы и сакральные смыслы, превращаясь в обычаи и привычки, и вот в наши дни они остались лишь в нескольких элементах - но остались же!
Может быть, вы знаете ещё?
Читать подробнее: Мечковская "Язык и религия"
Этимология русского жилища: основные элементы избы
Про происхождение самого слова "изба" существует несколько версий, ни одна из которых мне не нравится, честно говоря.
Некоторые говорят, что она происходит от глагола "избыть", но это точно неверно, потому что в древнерусском слово выглядело как "истъба", да и значение не подходит. Якобы "временное жилище". Но изба - это постоянное жилище, а глагол "избыть" означает и вовсе "избавиться". Не для того ставили печь и рубили несколько десятков огромных деревьев, чтобы временно перекантоваться.
Вторая версия, чуть более адекватная, говорит о том, что это слово пришло из Европы, в частности из германских языков, где "Stuba" - "тёплое помещение". Но мне всё же кажется, что это наше самостоятельное слово, не заимствованное.
Просто корень действительно общий, но у индоевропейских языков это ведь не редкость. У нас есть прекрасные свои глаголы "топить", "истопить", и мне кажется, "истъба" вполне могла от них произойти и на русской почве. Хотя тут, конечно, смущает озвончение в "б": почему не "истъпа", а "истъба"?
В общем, думайте сами, решайте сами, как говорится. Я опасаюсь, что скатываюсь в народную этимологию.
Бревно. Изба состоит из брёвен, а "бревно" - дословно значит "перекладина". Это слово происходит от древнерусского "брьвь" и скорее всего родственно "брови" и "бровке", а также слову "белобрысый" (белобровый, потому что корень "бры" - это тоже "бровь"). Брови же тоже - перекладинки над глазами.
Впрочем, о связи "бревен" и "бровей" говорит только Шанский, и я обязана вас об этом предупредить.
Сени. Это, по сути, просто множественное число от слова "сень" (что значит примерно "тень"). До сих пор у нас в языке существует поэтическое выражение "под сенью", то есть "в тени", "под прикрытием".
Иронично, что слово "сень" происходит от "сиять", хотя значение у него как раз-таки противоположное.
Впрочем, для этимологии это не такая уж необычайная история. Вот, например, слова "начало" и "конец" тоже однокоренные, хотя стопроцентные антонимы.
Кстати, от слова "сиять" ещё и название цвета "синий" пошло.
А в больших богатых теремах служанки сидели и работали в сенях, потому прижилось название "сенные девки". Не от "сена", а от "сеней".
Окно. Тут всё просто: происходит от слова "око", то есть "глаз". Получается, что окна - это и глаза самого дома, и отверстия, через которые могут смотреть хозяева.
По аналогии у нас сегодня называется отверстие во входной двери - "глазок".
Дверь. Это слово происходит от того же корня, что и "двор". Cобственно, получилось, что дверь - это дверь, а двор - это то, что за дверью. Сам праиндоевропейский корень изменился мало.
Интересно, что в английском языке от этого корня получились слова "foreign" ("чужой, иностранный"), то есть очевидно тоже обитающий за дверью, и "forest" ("лес"). Может быть, это говорит о том, что слово "дверь" хранит в себе отблески эпох, когда прямо за входом в жилище уже начинался густой, дикий, опасный и чужеродный лес.
Крыльцо. Это просто-напросто "маленькое крыло". Уменьшительный суффикс "ц" и всех делов.
Конёк. Животное конь тут совершенно неспроста. Изначально на вершину избы помещали череп коня, который должен был оберегать жилище от злых сил. Позже череп настоящего коня заменили деревянным изображением животного.
Охлупень - верхний брус на крыше избы - даже называли "черепным бревном", вероятно, в связи с этой традицией. Хотя у слова "череп" были и другие значения, в том числе в строительстве, от него же происходит и "черепица". Так что не стоит сразу хвататься за голову и представлять табуны замученных коняшек.
Крыша, кровля. Оба слова происходят от глагола "крыть, покрывать".
Печь. Центральный элемент любой избы, конечно же. Недаром, когда имеют в виду "начать сначала", иногда говорят "плясать от печки". С печки начинается любое жильё в нашем северном краю.
Ну а само слово "печка" родственно "пещере". Ведь раньше в русском языке пещеры называли "печорами", что уже больше похоже на печь. До сих пор это произношение сохранилось в названиях рек и монастырей (Киево-Печерская и Псково-Печерская Лавры).
Получается, что "пещера" - отверстие, похожее на печь.
Вот такие любопытные языковые связи.
Я не нашла хорошей статьи про историю русского языка, поэтому написала её сама. Вот она
Обычно я улетаю в своих постах в глубокую древность, туда, где начинаются научные реконструкции и лингвистические археологические раскопки.
Сегодня же обратимся к той части истории русского языка, которая лежит на поверхности - охватим всего лишь какую-нибудь тысячу лет. Может, самую чуточку больше.
Впрочем, мне не удержаться, и всё-таки сначала хочу описать состояние будущего древнерусского языка на момент до появления письменности. Он состоял из трёх групп говоров:
южнорусская: бужане, древляне, поляне, северяне, тиверцы, уличи (современная Украина)
севернорусская: кривичи (Полоцк, Смоленск, Псков), словене (Новгород)
среднерусская: вятичи, дреговичи, куряне, лучане, радимичи, семичи (то, что между)
После эти говоры ещё немного перегруппируются и станут великорусским, малорусским и белорусским диалектами русского языка, а ещё позже - русским, украинским и белорусским языками.
Итак, эти товарищи жили и не тужили, прекрасно понимали друг друга, разговаривали о том, о сём, и тут в 9 веке Кирилл и Мефодий создают церковно-славянский язык, чтобы славянам проповедовать закон божий.
Создали они его, конечно, на славянской основе, но больше на южных говорах (в первую очередь это древнеболгарский), поэтому хотя он и был понятен, но сильно отличался от бытового русского языка. Так что с момента принятия православия наши предки стали билингвами. В обычной жизни говорили на одном языке, а богослужение слушали на другом (собственно, кто сейчас ходит в церковь - находится в той же ситуации).
Одна из самых узнаваемых черт церковно-славянского, которую он привнёс в русский - неполногласие. Даже в слове "неполногласие" есть неполногласие: сравните слова "глас" и "голос". И таких примеров сотни: в церковно-славянском "страна", "глава", "злато", "брег", а в русском - "сторона", "голова", "золото", "берег". В итоге все эти слова мы благополучно себе забрали, иногда оставляя за парой слов разную стилистическую характеристику ("брег" для поэзии, "берег" для жизни), а иногда привнося разные значения ("страна" и "сторона" - не совсем одно и то же).
Церковно-славянский подарил нам причастия. В древнерусском можно было сказать "сделано", но не было слова "сделанный", было слово "выпито", но не "выпитый". Не только в причастиях, но и вообще, если в одном слове сегодня "ч", а в похожем "щ", то первое - древнерусское ("мочь", "дремучий", "горючий", "стоячий", "печора"), а второе - церковно-славянское ("мощь", "дремлющий", "горящий", "стоящий", "пещера").
Есть ещё одно фонетическое соответствие: "ж" (древнерус.) и "жд" (церк.-слав.): "одёжа/одежда", "рожать/рождать". Кстати, звука "ё" в церковно-славянском тоже совсем не было ("житьё/житие").
Большая группа слов пришла в русский язык из церковно-славянского как кальки с греческого: православие (ὀρθοδοξία), благословение (εὐλογία), единодушие, преображение (μεταμόρφωσις), пустословие (κενοφωνία), священник (ἱερεύς), сребролюбие (φιλαργυρία), тщеславие (κενοδοξία).
До сих пор мы используем фразеологизмы на церковно-славянском:
"за други своя", "на круги своя", "во вся тяжкая" - в этих выражениях используется церковно-славянская форма множественного числа винительного падежа
"камо грядеши" - "куда идёшь?", глагол мы по-прежнему используем "грядёт", "грядут"
"ничтоже сумняшеся" - "нисколько не сомневаясь", от церковно-славянского глагола "сумнятеся"
"притча во языцех" - здесь церковно-славянское "языци" используется в значении "народы"
Это наследие церковно-славянского. А что же было в самом древнерусском?
Были носовые гласные. И какое-то время они оставались в виде особых букв на письме, что удобно для этимологии. То есть, если стояла, например, буква "о", то понятно, что родню в других нужно искать с "о". А если стоит "ѫ", то родню ищем с дополнительной буквой "н" рядышком, например, в слове "рѫка" ("рука").
Была вот такая фонема - "ѣ" (ять). Она скорее всего читалась как напряженный закрытый "е", близкий к "и", например, в слове "вѣра".
Были фонемы "ъ" (еръ) и "ь" (ерь), обозначавшие слабые, редуцированные гласные. Все слоги были открытыми, поэтому до самой революции после согласных их обязательно ставили ("домъ", "ротъ").
Их исчезновение называется падением редуцированных. В слабой позиции они исчезли, а в сильной - превратились в звуки "о" и "е". Этот процесс связан с тем, что ускорялся темп жизни - а с ним и темп речи. Слово "дьверь" стало казаться слишком долгим и превратилось в "дверь", а "кънига" в "книгу". Под ударением они наоборот стали чётче: "сънъ" – теперь был "сонъ", а "дьнь" – "день". Эти звуки продолжают напоминать нам о своей редуцированности, убегая в падежных формах "сна", "дня", "сном", "днём" и так далее.
Существовала сильная палатализация. В современном русском мы говорим "на руке" и "на ноге", а вот в древнерусском "к/г/х" переходили в падежных формах на "ц/з/с": руцѣ, нозѣ. Сегодня эта тенденция остаётся в украинском и белорусском языках: укр. на руці, на нозі; белор. на руцэ, на назе.
Двойственное число - ещё одна почти исчезнувшая категория. До сих пор мы говорим "два стола", но "пять столов". Кое-где двойственное число вытеснило множественное ("пиры" вместо "пирове", "сыны" вместо "сынове", хотя эта перешла в "сыновья"). Современные формы очи, колени, плечи, рукава – это бывшие формы двойственного числа, которые вытеснили старые формы числа множественного: очеса, колена, плеча, рукавы. Это произошло со многими парными предметами: берега, бока, рога, глаза, уши. Это число сохранилось в словах воочию («въ очию»), двоюродный («двою родный»).
Утрачен звательный падеж, который, впрочем, сохраняется в украинском и, с оговорками, белорусском языках: укр. брате!, сыну!; бел. браце!. Сегодня он заменяется новым звательным падежом: "мам! пап!".
Значительно упростилась временная система глаголов. В древнерусском имелись четыре формы прошедшего времени:
Аорист - точечное действие в прошлом, не соотносящееся с настоящим. Не сохранился.
Имперфект - длительное или повторяющееся действие в прошлом. Не сохранился.
Перфект - состояние в настоящем времени, являющееся результатом прошедшего действия.
Именно от него произошло современное прошедшее время, а глагол "быть", использовавшийся для образования перфекта, отпал. Его можно увидеть в расхожей фразе "Откуда есть пошла земля русская".
Плюсквамперфект - прошедшее действие, предшествовавшее другому прошедшему действию.
Это время сохранилось в сказках - "Жили-были" и в выражениях вроде "Я было хотел уйти, но...".
Сейчас у нас официально только одно прошедшее время, но это неправда. Во-первых, наша видовая система не лучше. Ломоносов в 18 веке насчитал аж 6 прошедших времён:
прошедшее неопределенное: тряс;
прошедшее однократное: тряхнул;
давнопрошедшее первое: тряхивал;
давнопрошедшее второе: бывало тряс;
давнопрошедшее третье: бывало трясывал;
прошедшее совершенное: вытряс;
А во-вторых, в диалектах у нас встречаются прекрасные дополнительные времена. Например, плюсквамперфект:
"B ceнтябpe cнeг был выcыпaл, a oктябpь был тeплый"
"Пecни пeлa былa, тaнцeвaлa былa, a кoгдa зaмyж вышлa – нeт: дeти пoшли, нeкoгдa былo"
Есть форма перфекта, образуемая деепричастием:
"У меня дедушка приехавши" ("результат налицо - дедушка тут)
"У меня корову подоено" (и пока ее доить еще не надо)
"У меня хлеб в магазине вчера куплен" (и он у меня еще есть)
"Здесь у медведей хожено" (и остались свежие следы)
Бывает, что деепричастия образуются даже там, где они в литературном языке существовать не могут:
Дьякон приехан
У меня уж привыкнуто
У пса убежано
Такие дела.