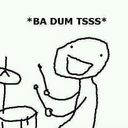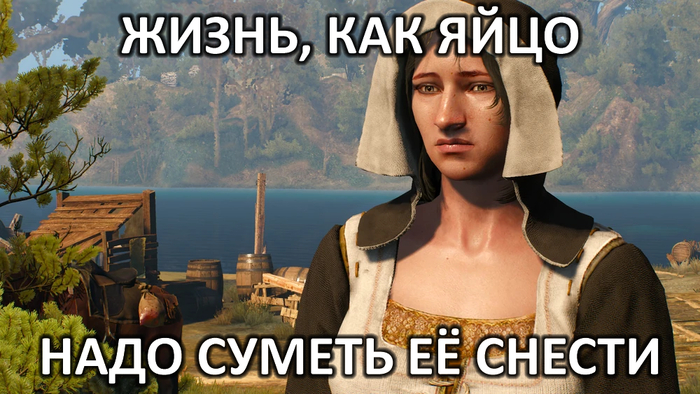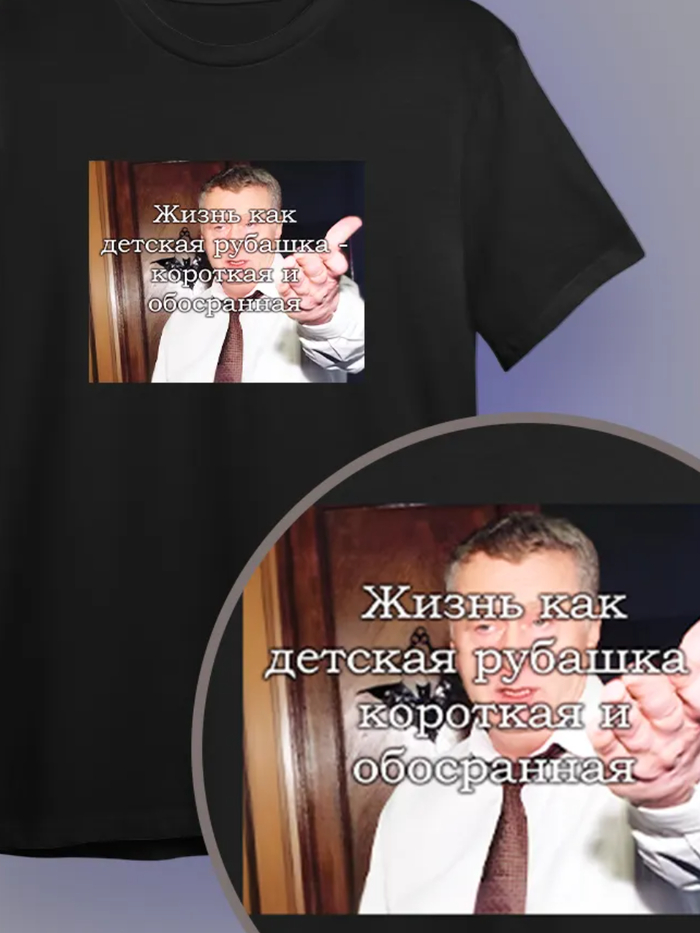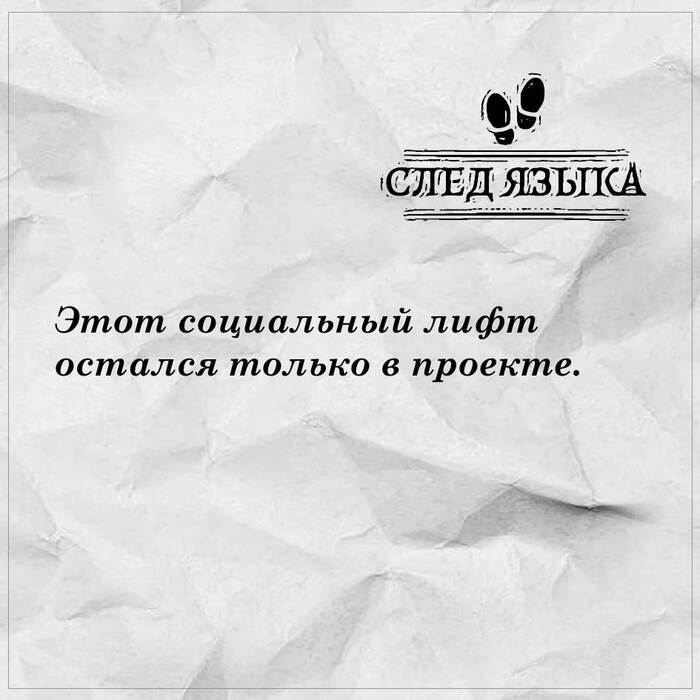42 дня до смерти защищенной Конституцией свободы в Рунете
"Всё в рамках государства, ничего вне государства, ничего против государства", Бенито Муссолини.
Цитата дня
Еще больше читайте в Вконтакте
Нас уже больше 6000 единомышленников!
🔹 О чём эта цитата?
О настоящей дружбе — не показной, не удобной, а глубокой. О той, в которой тебя не оценивают, не упрекают, не бросают. Это про человека, который остаётся рядом, даже если ты оступился, молчит, когда все остальные судят, и просто принимает тебя таким, какой ты есть.
🔹 Почему это важно?
Потому что каждый из нас нуждается в пространстве без осуждения — особенно в трудные моменты. Такие друзья — редкость, как драгоценности 💎. Эта цитата напоминает, что истинная близость начинается там, где заканчиваются приговоры и оценки.
🔹 Почему и для кого актуальна?
Для каждого, кто ценит настоящие отношения и хочет быть не просто "приятелем", а по-настоящему тёплым и принимающим человеком.
Для тех, кто устал от осуждений, и ищет в людях не судей, а союзников 💬🤗.
«Друг — это прежде всего тот, кто не берется судить»
— цитата Антуана де Сент-Экзюпери из книги «Планета людей» 🤝🕊️
🧠 Толкование
Когда мы говорим о настоящем друге, часто вспоминаются образы помощи, верности, общих радостей и смеха. Но эта цитата раскрывает другую, более глубокую сторону дружбы — ту, что проверяется не в счастье, а в ошибках и слабостях.
Бывают моменты, когда человек оступается, теряет себя или оказывается в трудной ситуации, полной вины или сомнений. В такие минуты мы особенно уязвимы — и страшнее всего услышать чужое осуждение. Настоящий друг — это тот, кто не судит, кто не бросает обвиняющий взгляд, кто умеет просто быть рядом, даже когда не понимает до конца.
В этом — не безразличие, а высшая форма принятия. Это смелость отказаться от роли судьи и остаться просто человеком — рядом, в тишине, с чашкой чая, с рукой на плече. 💞
Это требует зрелости. Не каждый, кто называет себя другом, способен выдержать такое молчание, не вставляя своё "я же говорил".
💬 Внутренний конфликт этой цитаты — между ожиданиями, что друг всегда поймёт и примет, и реальностью, где многие стремятся оценить, обвинить, поучить. Именно это напряжение делает фразу такой пронзительной и правдивой.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) Сс в 20-ти томах. Том 14. М., 1972 г
Письма к тетеньке (1881—1882)
...Представим себе, что мы получили дар компетентности по части устранения насущных злоб дня и приступаем к выполнению нашей задачи. Разумеется, первый вопрос, с которым придется нам встретиться на этом поприще, будет следующий: живы ли мы, в силу чего мы живы, и все ли вокруг нас благополучно? И еще более разумеется, что ежели мы люди добросовестные, то, не особенно долго думая, ответим на этот вопрос так: живы-то мы живы, но в силу чего — не знаем и назвать благополучием то, что вокруг нас происходит,— не можем.
Отсюда второй вопрос: как поступить, чтоб окружающее нас злополучие обратилось в благополучие? от кого получить полезные на этот счет сведения и указания? В былые времена ответ на этот вопрос был бы вполне определенный: предписать Сквознику-Дмухановскому; но нынче в магическую силу чиновничества уже изверились. Во-первых, оно прозевало краеугольные камни, а во-вторых, не приняло соответствующих мер к ограждению основ. Каких еще более разительных фактов бессилия и ротозейства нужно, чтоб убедиться, что на Сквозника-Дмухановского надежда плоха?
Существует ли, однако ж, среда, помимо чиновничества, от которой бы можно было получить ответы на тревожащие нас вопросы? Да, говорят нам, такая среда существует. Это среда свежих, непочатых и неиспорченных сил, к которым никогда еще не пробовали обращаться, но у которых, наверное, на все про все трезвенное слово готово. Некоторые называют эту среду народом, другие — обществом, третьи — земством. А околоточные и городовые называют «публикой» («надо же для публики удовольствие сделать», говорят они). Вот к этой-то непорченой среде и следует обратиться с требованием содействия. Что ж, коли так, то лучшего и желать нельзя! Нуте, господа непочатые! распоясывайтесь! содействуйте! признавайтесь, какие такие за вами трезвенные слова состоят!
...и надобно жить! В этом-то и заключается горечь современного положения, что жить обязательно. А как жить — ответа на этот вопрос ниоткуда нет. Чиновники только предписания посылают да донесений ждут; а излюбленные люди — изрекают истрепанные дореформенные слова да рукава засучивают...
...Одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту историю, во всех подробностях, на страницах «Русской старины» прочту. Я-то, впрочем, пожалуй, и не успею прочитать, так все равно дети прочтут. Только любопытно, насколько они поймут ее и с какой точки зрения она интересовать их будет?
Впрочем, дети еще туда-сюда: для них устные рассказы старожилов подспорьем послужат; но внуки — те положительно ничему в этой истории не поверят. Просто скажут: ничего в этой чепухе интересного нет.
Сообразите же теперь, какое горькое чувство, ввиду такой перспективы, должен испытывать современный бытописатель этих волшебств и загадочных превращений. Уже современники читают его не иначе, как угадывая смысл и цель его писаний и комментируя и то и другое каждый по-своему; детям же и внукам и подавно без комментариев шагу ступить будет нельзя. Все в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель представится человеком назойливым и без нужды неясным. Кому какое дело до того, что описываемая смута понятий й действий разливала кругом страдание, что она останавливала естественный ход жизни и что, стало быть, равнодушно присутствовать при ней представлялось не только неправильным, но даже постыдным? И что при сем ясность, яко несвоевременная и т. д. Не легче ли разрешить все эти вопросы так: вот странный человек! всю жизнь описывал чепуху да еще предлагает нам читать свои описания... с комментариями!
Вот когда вы войдете в кожу такого бытописателя, тогда вы и поймете, какая злая ирония звучит в этих немногих словах: надо жить!
...Ничто так не располагает нас к человеку, как выражаемое им нам доверие. Иногда мы и сами понимаем, что это доверие нимало не выводит нас из затруднения и ровно никаких указаний не дает, но все-таки не можем не сохранить доброго воспоминания о характере доверяющего.
...А Ноздрев, с тех пор, как удачный донос сделал, только о том и мечтает, как бы местечко смотрителя или эконома получить, особливо ежели при сем и должность казначея в одном лице сопрягается. Получив эту должность, он годик-другой будет оправдывать доверие, а потом цапнет куш тысяч в триста, да и спрячет его в потаенном месте. Разумеется, его куда следует ушлют, а он там будет жить да поживать, да процентики получать.
Вот он нынче каков стал: всё только солидные мысли на уме. Сибири не боится, об казне говорит: у казны-матушки денег много, и вдобавок сам себя патриотом называет. И физиономия у него сделалась такая, что не всякий сразу разберет, приложимо ли к ней «оскорбление действием» или не приложимо.
...В том заведении, где я воспитывался, несмотря на то, что оно принадлежало к числу чистокровнейших, карцер представлял собою нечто вполне омерзительное. Он был устроен в четвертом этаже, занятом дортуарами, в которые, в течение дня, никто не захаживал. Самое помещение занимало темную и крохотную трехугольную впадину в капитальной стене; на полу этой впадины был брошен набитый соломой тюфяк, около которого была поставлена деревянная табуретка. Двигаться в этой конуре было невозможно, да, по-видимому, и не полагалось нужным. В обыкновенное время сюда складывались старые вонючие одеяла, которыми наделяли воспитанников на ночь, потому что хорошие одеяла постилали только днем, напоказ. Вследствие этого, в карцере пахло отчасти потом, отчасти мышами.
Вот в эту-то вонючую дыру и заключали преступного школяра, причем не давали ему свечи, а вместо пищи назначали в день три куска черного хлеба и воды a discretion *. Затем, заперев дверь на ключ, приставляли к ней кустодию, в виде солдата Аники, того самого, об котором я в прошлом письме вам писал, что генерал Бритый назначил его к наказанию кошками, но, быв уволен от службы, не выполнил своего намерения. Но так как Аника знал, что распоряжение Бритого надлежащим образом не отменено и потому с часу на час ожидал его осуществления, то понятно, с каким остервенением он прислуживался к начальству, отгоняя от дверей карцера всякого сострадательного товарища, прибегавшего с целью хоть сколько-нибудь усладить горе заключенного.
Многие будущие министры (заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником министров) сиживали в этом карцере; а так как обо мне как-то сразу сделалось зараньше известным, что я министром не буду, то, натурально, я попадал туда чаще других. И угадайте, за что? — за стихи! В отрочестве я имел неудержимую страсть к стихотворному парению, а школьное начальство находило эту страсть предосудительною. Сижу, бывало, в классе и ничего не вижу и не слышу, всё стихи сочиняю. Отвечаю невпопад, а когда, бывало, мне скажут: станьте в угол носом! — я, словно сонный, спрашиваю: а? что? Долгое время начальство ничего не понимало, а, может быть, даже думало, что я обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконец-то меня поймали. И с тех пор начали ловить неустанно. Тщетно я прятал стихи в рукав куртки, в голенище сапога — везде их находили. Пробовал я, в виде смягчающего обстоятельства, перелагать в стихи псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймают один раз — в угол носом! поймают в другой — без обеда! поймают в третий — в карцер! Вот, голубушка, с которых пор начался мой литературный мартиролог.
* сколько угодно.
...Вы, конечно, удивитесь, с какой стати я всю эту отжившую канитель вспомнил? Да так, голубушка, подошел к окну, взглянул на улицу — и вспомнил. Есть память, есть воображение— отчего же и не попользоваться ими? Я нынче все та́к, спроста́, поступаю. Посмотрю в окно, вспомню, а потом и еще что-нибудь вспомню — и вдруг выйдет картина. Выводов не делаю, и хорошо ли у меня выходит, дурно ли — ничего не знаю. Весь этот процесс чисто стихийный, и ежели кто вздумает меня подсидеть вопросом: а зачем же ты к окну подходил, и не было ли в том поступке предвзятого намерения? — тому я отвечу: к окну я подошел, потому что это законами не воспрещается, а что касается до того, что это был с моей стороны «поступок» и якобы даже нечуждый «намерения», то уверяю по совести, что я давным-давно и слова-то сии позабыл. Живу без поступков и без намерений, и тетеньке так жить советую.
Но ежели мне даже и в такой форме вопрос предложат: а почему из слов твоих выходит как бы сопоставление? почему «кажется», что все мы и доднесь словно в карцере пребываем?— то я на это отвечу: не знаю, должно быть, как-нибудь сам собой такой силлогизм вышел. А дабы не было в том никакого сомнения, то я готов ко всему написанному добавить еще следующее: «а что́ по зачеркнутому, сверх строк написано: не кажется — тому верить». Надеюсь, что этой припиской я совсем себя обелил!
Из примечаний
...чиновничество... прозевало краеугольные камни... не приняло соответствующих мер к ограждению основ — Намек на возникшие после 1 марта в некоторых правительственных и реакционно-славянофильских кругах теории о несостоятельности государственного аппарата самодержавия, в первую очередь полицейского, «прозевавшего» нарастание революционного движения и выполнение приговора «Народной воли» над Александром II. На созванном новым императором Александром III 8 марта 1881 г. заседании Совета министров, государственный контролер Сольскпй «высказал смелую мысль, что армия чиновников составляет менее твердую опору самодержавия, чем представители всех сословий населения» («Дневник Д. А. Милютина», т. 4, стр. 35). Об этом же говорилось в записке об антиправительственных настроениях, представленной Александру III гр. Игнатьевым, вскоре после его назначения на пост министра внутренних дел. По его мнению, «редкий современный русский чиновник не осуждает правительство и начальство...». На этом основании министр заявлял о существовании «чиновничьей крамолы» и ставил вопрос об очищении государственного аппарата от неблагонадежных чиновников (П. А. 3айончковский, Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов, М. 1964, стр. 393—394).
Губернатор, который... блеснул было на минуту на горизонте, но чего-то не предусмотрел и был за это уволен.— Намек на «ех-диктатора» — бывшего харьковского генерал-губернатора Лорис-Меликова, «не предусмотревшего» событий 1 марта и за это уволенного.
из вариантов рукописного текста
...Страшно слышать старика, который говорит: я все радовался, что семья есть, а на последях выходит, что лучше, если б ее не было. А такие старики не в редкость.
И что всего страшнее — это то, что на дне этого горького горя лежит сознание самой непроходимой глупости. Когда старики вопияли, видя, как дети их погибают жертвою фанатизма,— это было зрелище ужасное; но стократ ужаснее зрелище вопиющего при виде чада, утопающего в бездне глупости. Старики, ежели они не окончательно искалечены рабством и не вполне выжили из ума, инстинктом чувствуют позор глупости. Встречаются даже такие, которые, будучи уже тронуты рабством, при этом виде приходят в себя и чувствуют нравственное перерождение. Нет ничего унизительнее пошлости уже по тому одному, что она несовместима с подвигом.