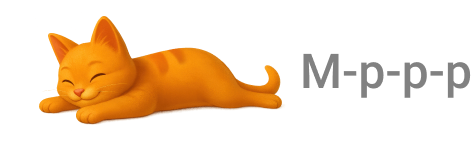Я никогда прежде не считал себя излишне впечатлительной натурой. И снова начав писать для прояснения туманных мыслей, уже вполне чётко различаю факты и свои чувства. А фактов - хотя бы того, что можно счесть таковыми, - одна газетная заметка в архиве. Из неё известно место - деревня Березвица, Себежский уезд, Витебская губерния, - и время - лето 1884 года. Ни то, ни другое перепроверить по иным источникам не представляется возможным: пожар 1885 года уничтожил Себежский городской архив, а деревню сожгли нацисты зимой 1943 года, и более она или переселенцы из неё не упоминаются.
Таким образом, я располагаю только газетной сплетней и одним ещё менее достоверным источником, раскрывшим значительное количество деталей. Прочитав поверхностное изложение в уездной газетке - и уверяю, не испытав никаких особенных эмоций, - следующей же ночью я стал свидетелем полных событий во сне. Его реалистичность и точность затмевала любой из виденных мною прежде и потом. Незнакомая сила, многократно превосходящая моё воображение, воссоздала целый мир, отпечатала в памяти и вытолкнула моё сознание в обыденность. Я включил свет, убедился в отсутствии жара и пролежал около часа, пытаясь осмыслить случившееся. Совершенно механически я принял душ и начал делать кофе. При этом отчего-то вспомнил, что прадед был родом из Пскова, как позже выяснилось, находящегося недалеко от Себежа. Привычка работы в архивах вынудила меня задокументировать данный случай. Я тщательно записал сон – или, вернее сказать, мысленное путешествие? Так или иначе, о том дне могу рассказать следующее.
Солнце медленно, словно утомлённое собственным жаром, спускалось к лесу. Разогретые деревенские дома, ограды, хозяйственная утварь провожали его почтительными поклонами своих теней. Щедро накрытый свадебный стол ещё сохранял нарядность, предлагая лёгкому ветерку поиграть расшитой скатертью, а родне и гостям - дополнить праздник духа праздником живота. Молодые радовали глаз, родители украдкой смахивали слезинки. Громкие, сдобренные настойками разговоры перемешивались с криками детворы, находившей себе забавы вокруг стола.
Переполнившись чувствами, кто-то запел, другой подхватил. К концу куплета песню выводил уже целый хор. Не имея достаточно слов, а скорее не нуждаясь в них, люди переливами голосов и полутонами партий выражали состояние души, такой же общей сейчас, как песня.
Особо выделялся голос Матвея. Он, хоть и чурался грубых мужицких забав, безмерно уважался за певческое мастерство и цепкую память. Когда первая песня сменилась задорной плясовой, Матвей, сам к тому не стремясь, оказался запевалой. Молодёжь с удовольствием пустилась в пляс, а немалая часть взрослых увлечённо притаптывала и хлопала в ритм.
Дружный восторженные возглас и смех ознаменовали окончание танца. Дмитрий Николаевич, ставший сегодня свёкром, ублаготворённо пригладил бороду и попросил:
- Матя, а спой «Журавлика»?
Матвей переменился в лице и опёрся локтями на стол, его плечи опали, спина прогнулась под невидимым гнётом. Близко знавшие юношу поглядывали то на Дмитрия Николаевич с осторожным укором, то на Матвея - с сочувствием. «Журавлика» он пел много и чаще всего без публики, для одной лишь Катерины, почившей в минувшую зиму.
- Эх, слышали бы вы, как он её у скобарей на ярмарке вытянул! - поделился восхищением Дмитрий Николаевич. - Певец тамошний вздумал, будто поёт чище наших соловьёв. Ха! Матя такого показал, что дальше спорить уж не стали.
Матвей коротко улыбнулся, припоминая прошлый год, ярмарку, Катерину. Чёрная тоска снова оплела горло, намереваясь превращать песни в вой. Но сегодня лежала не пеньковой петлёй, а нескладно повязанным платком. Всё на празднике было против неё. Мягкий солнечный свет заместо лучины. Желанная вечерняя прохлада вместо леденящей метели. Простор, радость за других невозможная в соседстве с тоской. Всё вокруг жило и заражало стремлением жить.
Матвей запел. С фальшью, словно не он только что вёл деревенское многоголосие. Но строчка за строчкой взлетал «Журавлик» и полёт его становился чище и чище. Следом за ним увлекался в небо и сам певец. Он снова выпрямился, поднял взгляд от стола на Дмитрия Николаевича, кивающего в такт.
Больше не боясь сбить запевалу, гости вплетали свои партии. Среди них мелодично и высоко проступали нотки девичьего голоса. Поймав их, Матвей скоро нашёл исток - Софью, дочь кожевника. Она теребила русую косу и старалась поменьше глядеть на Матвея, остерегаясь влезать не в своё дело. Лишь уверившись, что молодой человек не против её участия, Софья позволила себе посмотреть в его глаза. И до конца песни не было ничего значительнее ладного пения и неразрывного взгляда.
Праздник продолжался, потом молодых отпустили, а гости разошлись. Огоньки в окнах гасли, возрождаясь звёздами безоблачного неба. На краю деревни, с которого уходила дорога на кладбище, залаяла собака. Лай подхватила соседняя, за ней третья. Минуты не прошло, как вся деревня была разбужена злым и визгливым гомоном. На улицу прямо в исподнем выбегали мужики, кто-то прихватывал с собой лопату или топор, кто-то бежал так, но никто не мог сказать, что происходит.
Покуда не услышали истошное: «Идёт! Идёт!» Все бросились на голос, поспевшие первыми сбивались в толпу, остальные упирались в них и пытались расспросить или увидеть, кто же идёт. Собачий лай сменился рычанием злых и поскуливанием трусливых. Внезапно замолчала толпа, и по деревенской улице стали проноситься отрывистые хриплые звуки. Не представлялось возможным разобрать в них слова, но растянутые, искажённые они отчётливо угадывались каждым по мотиву «Журавлика».
Матвей протолкнулся вперёд и увидел в слабом ночном свете её. Почерневшее тело, погребальные одежды в следах земли, пустые глазницы под растрёпанными волосами. Каждое движение - будь то шаг или произношение - слабое, медленное, через силу. Словно заметив своего возлюбленного, мёртвая девушка остановилась и прервала пение.
Стало тихо, настолько, что слышались детский плач в избах и метания собак по дворам.
- Что же ты, - прохрипела Катерина, - поёшь теперь не мне...
Мокрый холод зимних болот стал оплетать Матвея. Толпа бросилась креститься, в первый ряд вышел Дмитрия Николаевич.
- Кать, - он прочистил горло и повторил. - Катька, нет за Матьёй вины. То я просил.
Мертвец не двинулся и не мог перевести взгляд, но по телу Дмитрия Николаевича пробежали мурашки.
- Не с тобой он пел... Он знает...
Матвей почувствовал новое леденящее прикосновение и невольно дёрнулся. Дрожь ослабила колени и принялась играться челюстью, пробуждая панику с примесью стыда.
- Знаю, - ответил Матвей с вызовом. - И ты знаешь, что нет у меня пред тобой вины.
- Мне решать.
Мёртвая девушка сделала шаг, ветер донёс запах земли. Толпа ахнула, отец Софьи перекрестился. Матвей затряс головой.
- Нет! Нет. Мы оба знаем, что мне не в чем каяться. Я никогда не забуду ни тебя, ни своих слов. Нечего тут решать, уходи!
Катерина жгла его пустыми глазницами.
- Так заговорил? Сам приползёшь за прощением... - сказала она, и тело её сложилось куклой, выпущенной из рук.
Толпа ещё долго не решалась подойти ближе или разойтись. Большинство порешило до рассвета дежурить вместе, а утром с величайшей осторожностью девушку перезахоронили обратно. Неделю мужики по двое-трое проверяли новую могилу, но более усопшая не беспокоила. Приглашённый из Себежа соборский батюшка целый день проводил службы, а Матвея и Софью родители отправили вместе с ним подальше от греха.
Записав это, я перебрал общедоступную информацию, почти не нашёл ответов. В то же время иррациональное чувство заставляет меня держаться подальше от обсуждения её. Полагаю, виной тому чувство стыда за неизбежные вопросы ко мне. Например, почему я позволил поддаться ночным страхам и дать столь грубое описание Катерины. Ведь я прекрасно видел её чистое молодое лицо, светлые, похожие на две луны, глаза, полную беззаботной радости улыбку, волосы, пахнущие…
Автобус проехал белый знак «Себеж», я закрыл блокнот.