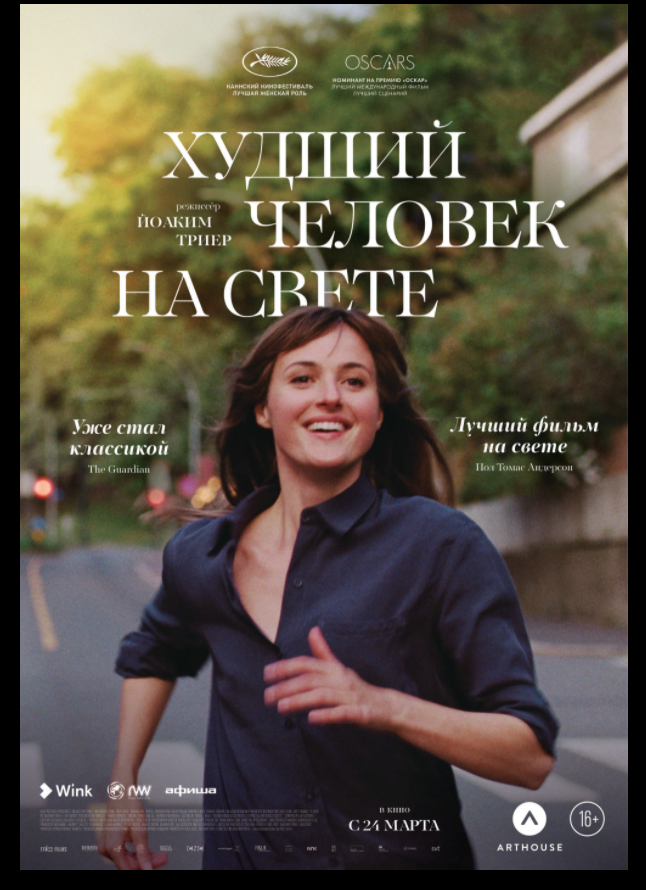Смена поколений
В 1960-е годы польская кинематография лишилась некоторых из своих ведущих художников, как зачинателей «польской школы», так и молодых мастеров.
В 1961 году стал жертвой автокатастрофы режиссер Анджей Мунк («Героика», «Пассажирка» и др.). В 1967 погиб под колесами поезда актер № 1 Польши Згибнев Цыбульский...
В 1963 году выезжает на Запад «вундеркинд польского экрана» Роман Полански («Нож в воде», 1961). В 1968 его примеру следует другой молодой режиссер и актер Ежи Сколимовски («Валковер», «Барьер», 1969). Чуть позже эмигрируют один из лучших польских операторов Ежи Липман (снявший «Канал», «Пепел» и др. классические ленты) и режиссер знаменитых «Крестоносцев» Александр Форд.
Предпочли работать на Западе талантливые мультипликаторы Ян Леница и Валериан Боровчик...
За все десятилетие 1970-х на экраны выходит только один фильм Войцеха Хаса («Санаторий под песочными часами», 1974).
Проведя несколько лет за рубежом, автор «Поезда», «Матери Иоанны от ангелов» и «Фараона» Ежи Кавалерович лишь в самом конце 1970-х ставит ретродраму «Смерть президента» (1978) об убийстве в 1923 году польского президента Габриэля Нарутовича.
Лишь один фильм в 1970-х был поставлен и Тадеушем Конвицким, покорившим когда-то венецианский фестиваль поэтичным «Последним днем лета» (1959).
Значительно поумолкли дискуссии вокруг новых фильмов Евы и Чеслава Петельских, Витольда Лесевича, Станислава Ленартовича, Яна Рыбковского, Станислава Ружевича и иных режиссеров старшего поколения.
Из всех «мэтров» один только Анджей Вайда продолжал плодотворно работать, поставив в 1970-х такие значительные картины, как «Пейзаж после битвы», «Земля обетованная», «Человек из мрамора» и др.
Итак, в 1970-х на первый план вышли новые матера, многие из которых родились уже после войны. «Третье польское кино» отличалось «прежде всего стремлением к исследованию духовного мира своего современника» (Колодяжная, 1974, с. 78).
Феномен Занусси
Одним из наиболее талантливых представителей «третьего польского кино» по праву считается Кшиштоф Занусси.
«Конфликты его произведений – всегда внутренние, можно сказать, духовные, протекающие как бы подспудно, без бурных внешних проявлений», - писал о творчестве режиссера Ромил Соболев (Соболев, 1979, с. 78).
Но эти слова кажутся мне справедливыми только для начального этапа творчества К. Занусси («Структура кристалла» (1969), За стеной (1971), «Роль» (1972), «Иллюминация» (1973) и др.).
Уже в «Квартальном балансе (1974) сквозь внешне бесстрастную, снятую «под документ» сюжетную ткань нанизываются эпизоды-«взрывы», где героиня фильма (ее роль играет любимая актриса режиссера Майя Комаровска) дает волю своим сдерживаемым чувствам, эмоциональному всплеску. История замужней женщины, подавленной нудной работой, неустроенностью быта и отношений с мужем, в самом деле, больше обращена к интеллекту, а не к чувствам зрителей.
Но все же в «Квартальном отчете» можно усмотреть истоки того яростного кинематографа открытого конфликта, к которому пришел режиссер на пороге 1980-х в фильмах «Константа» и «Контракт».
В. Колодяжная, по-моему, точно определила основную проблему творчества К. Занусси как проблему «моральной ответственности человека». В каждой новой работе режиссер ставит ее все жестче, острее, эмоциональнее.
И если героям его первых картин была присуща определенная замкнутость, отгороженность от жизни общества, углубленное внимание к собственному внутреннему миру, то в «Константе» и «Контракте» на первый план выходят проблемы социальные.
Герои Занусси (ибо он также и сценарист своих фильмов) решают здесь не сугубо личные, интимные или научно-философские вопросы, а конфликтные проблемы взаимоотношения личности и общества.
Фильмы Занусси всегда находятся под пристальным внимание польской критики. Каждая его новая работа вызывает споры на страницах кинематографической печати.
Иные критики, субъективно трактуя творчество режиссера приписывают ему весьма спорные идеи. К примеру, Чеслав Донзилло уверен, что «Кшиштоф Занусси во сех своих фильмах говорит о конечности сопротивления индивидуальных моральных качеств» (Донзилло Ч. В поисках твердой почвы // Film. 1980. № 31, с. 6.).
Попробуем разобраться в проблематике «Константы» и «Контракта». На первый взгляд, «Константа» полностью укладывается в наше представление о фильмах Занусси: неброскость, сдержанность, «документальная» объективность. «Фильм смонтирован с музыкальной плавностью, с массой световых нерезкостей, как бы мимоходом запечатленных, не рассчитанных на эффект» (Соболевски Т. «Константа»// Film. 1980. № 29, с. 8).
Однако есть в «Константе» и эпизоды-всплески: бьющая по нервам сцена сожжения мертвой молодой индианки, когда крупным планом показано, как по еще прекрасному лицу бегут муравьи, спасаясь от языков пламени огромного костра...
Польский критик Згибнев Клячински считает, что эта сцена «ассоциируется с мотивом смерти, который в фильме рефреном возвращается в разных вариантах; смерть в поединке с судьбой, смерть самого близкого человека, забирающая словно часть жизни тех, кого осиротила» (Клячински З. Мое кино – наше кино // Film. 1980. № 31, с. 4).
Мне кажется, столь далеко идущие выводы не обязательно вытекают из сути картины. История молодого варшавянина Витека (Тадеуш Брадецки) – это не фатальная история смерти, напротив, рассказ о том, как человек стремится жить, сохраняя постоянной (вот она – «константа») свою мораль, основанную на честности, неподкупности и бескомпромиссности.
Витек с удивлением и возмущением обнаруживает, что в больницах врачи берут взятки, на фирме, где он работает, процветают разного рода махинации. Он вступает со всем этим в борьбу, но терпит поражение и решает жить «спокойно», ни во что не вмешиваясь. «В кристально честном герое нет воли борьбы, духовной силы, способности к улучшению окружающего мира» (Клячински, 1980).
Так Занусси приходит к трагическому финалу: Витек, устроившийся рабочим на стройку, беспечно сбрасывает вниз негодные кирпичи , а там, под самой стеной дома пробегает малыш...
Стоп-кадр заставляет рухнувшие с высоты кирпичи замереть в воздухе...
Что это? Символ конечности сопротивления злу?
В жизни нет абсолютного постоянства – константы – ни в моральной ответственности человека, ни в «моральном непокое», ни в попытке остаться в стороне, самоуспокоенности... Вот о чем, на мой взгляд, размышляет режиссер.
Ту же проблему нравственного спокойствия и беспокойства, ответственности не только за свою судьбу, но и за судьбу общества еще более остро ставит Занусси в «Контракте».
«Контракт» – портрет современной интеллигенции, претендующий на великосветсткое парижское общество. Духовная мелочность, отсутствие какого-либо морального беспокойства, готовность продать всех и все...
Действие фильма композиционно завязано на одном драматическом свадебном вечере на некой шикарной загородной вилле.
Жених (К. Кольбергер) и невеста (М. Ярошувна) понимают, что их предполагаемый брак – контракт, подчинен сугубо материальному расчету. Невеста убегает буквально из-под венца, но гости (знакомые из Швеции, родственники из Англии, местные бизнесмены) уже собрались на торжество, и родители (их роли исполняют М. Комаровска и Я. Гайос) не решаются его отменить...
Замкнутое пространство виллы помогает режиссеру раскрыть подлинную суть гостей – взяточников, стяжателей, воров, искусно прячущих свою суть под маской интеллектуализма и «современных нравов». На деле же эта современность сводится к обжорству, выпивке, сексу и главное – к жажде денег, высоких должностей и т.п.
В фильме Занусси немало емких метафор, символов. Вот лишь один эпизод.
...Компания гостей вздумала покататься на санях по зимнему лесу. Резво бегут лошади, а в телеге две бывшие балерины пьяными нестройными голосами пытаются пропеть мелодию испанского танца из балета Чайковского «Лебединое озеро»... Получается фальшиво и нелепо. И вдруг их дуэт как бы подхватывает музыка, звучащая все громче и громче.
Но почему же снова и снова повторяются такты вступления и никак не начинается мелодия? Музыкальный без на месте, разгон без продолжения вступает в многозначительный контрапункт с искаженной мелодией, которую выводят две увядшие примы.
А лошади все несут их вперед, и никто из гостей не знает, что сын хозяина в отчаянии зажег виллу, чтобы уничтожить символ престижа и благополучия...
Прекрасно снят оператором Славомиром Идзяком финал «Контракта».
Пожар потушен. Гости разъезжаются по домам. Невеста в одиночестве бредет по лесу, и вдруг ей на встречу выходит красавец-олень.
Оператор сквозь нерезкость запорошенных снегом веток приближает к нам грустные чистые глаза лесного великана...
– Что же нам делать? Как жить дальше?, – спрашивает героиня картины.
А в ответ молчаливый укор оленьих глаз...
Резко, бескомпромиссно, жестко обличая сильных мира сего, Кшиштоф Занусси накануне событий 1981 года ставил трудные вопросы, до сих пор остающиеся без однозначного ответа...
А кто же рядом? Безусловно, не только Занусси затрагивал в 1970-х острые грани моральных проблем.
Рядом с ним были и другие режиссеры. К примеру, Ежи Стефан Ставиньски подтвердил свою репутацию тонкого знатока психологии, ироничного рассказчика, отдающего «серьезные темы» (сценарии «Канала», «Героики» и др.) крупнейшим режиссерам Польши, и предпочитающего ставить скромные, камерные вещи.
В 1973 году Ставиньски экранизирует собственную повесть «Час пик» – грустную притчу о человеке, который всю свою жизнь считал себя любимым начальником, мужем, отцом, желанным любовником и т.д., но в один прекрасный день обнаружил, что все это – блеф...
В 1978 году Ева и Чеслав Петельские по сценарию Е.-С. Ставиньского снимают жесткую драму «Обратный билет» – историю о печальной судьбе крестьянки, в надежде на богатство уезжающей за океан, в Канаду...
Януш Моргенштерн в драме «Нужно убить эту любовь»(1974), защищая чистоту чувств, обличает обывательщину, засасывающую главного героя фильма – молодого парня, который променял бедную невесту-медсестру на сулящую повышение любовную связь с женой начальника...
Тревожным рефреном проходит сквозь фильм символическая сцена дружбы-вражды сторожа порохового склада и собаки. Одинокий и угрюмый мужчина в редкие минуты хорошего настроения прикармливает бездомного пса. Но обычно, томясь от безделья, дразнит и издевается над ним... Последняя «шутка» сторожа оказывается роковой: задумав взорвать собаку, он обвязывает ее динамитом, поджигает фитиль и гонит прочь...
Но испуганное животное, почуяв неладное, отчаянно визжа, бросается в открытую дверь склада. Камера одного из лучших польских операторов Зигмунда Самосюка «рапидом» снимает летящие осколки ветхого здания и удивленные лица людей вокруг...
Они, много раз спокойно наблюдавшие, как сторож садистки мучает собаку, молчали, и только взрыв заставил их на минуту отвлечься от повседневных дел...
Так Моргенштерн протестует против равнодушия, самоуспокоенности, замкнутости в скорлупе комфорта и самодовольства...
Сходную позицию в искусстве занимает и Роман Залуски.
В мелодраме «Анатомия любви» (1972) Залуски выступает против замены подлинной любви «партнерством», «занятиями любовью»; в притчеобразной, ироничной форме «анатомируя» психологию отношений между двумя тридцатилетними героями (их сыграли Барабара Брыльска и Ян Новицки).
В 1978 Залуски ставит «Убежище» – картину на тему нравственного конформизма.
... 1946 год. Главный герой фильма уверен, что теперь, когда война окончена, он может спокойно жить где-нибудь в захолустье, ни во что не вмешиваясь, думая лишь о хлебе насущном. Но в Польше идет гражданская война, нужно сделать выбор...
С не менее острыми, проблемными картинами выступили в 1970-х Ян Маевски, Марек Пивовски, Анджей Тшос-Раставецки, Анджей Кондратюк, Януш Насфетер и другие режиссеры старшего и среднего поколения.
Были, конечно, и традиционные, постановочные и жанровые картины. А как же иначе! Киноиндустрия, выпускающая в год около 30 фильмов не может себе позволить роскошь тотального авторского кино.
Лидером постановочных, костюмных боевиков и рекордсменом кассовых сборов десятилетия стал «Потоп»(1974) Ежи Гофмана по Генриху Сенкевичу. С успехом прошла по экранам многих стран и другая сделанная Гофманом экранизация – «Прокаженная» (1976).
К сожалению, как мне кажется, в этой мелодраме режиссеру изменил вкус, он не справился со «слезоточивой» стихией первоисточника...
Были и откровенно неудачные, вторично-подражательные ленты, вроде вестерна «Все и никто» (1978) Конрада Наленского, перенесшего схему «Семи самураев» – «Великолепной семерки» в послевоенную Польшу.
Были мнимо многозначительные, претенциозные, но пустые по сути картины («Похороны сверчка», 1978 Войцеха Фивека, «Сложность чувств», 1976 Леона Жанно и др.) Были глупейшие и пошлейшие комедии («Миллион за Лауру», 1975).
Были фильмы с натуралистической дотошностью восстанавливающие эпизоды, связанные с антифашистским сопротивлением («Акция у Арсенала», 1978 Яна Ломницкого, «Сто коней к ста берегам», 1979, Згибнева Кузминского, «Смертный приговор» Витольда Ожеховского). Но из-за усредненгости авторского взгляда, слабой разработки характеров, они, бесспорно, уступали даже средним фильмам «польской школы» на военную тему.
Крепкий профессионал Ян Батори в фильмах «Необыкновенное озеро» («Как это случилось?», 1972, «Con amore» , 1976, «Украденная коллекция», 1979) в своего рода упрощенном, адаптированном для юношеского возраста варианте – в жанре мелодрамы и комедии пытался раскрыть проблемы нравственности и этики любви, ставшие ведущим летмотивом творчества ведущих кинематографистов Польши.
Очень точно, к примеру, пишет о фильме Я. Батори В. Колодяжная: «Необыкновенное озеро» призывает к чуткости, великодушию и ответственности, но действие подчиняется случайностям, оно мелодраматично, образы героев неглубоки, и в результате нравственные проблематика оказывается недостаточно серьезно раскрытой» (Колодяжная, 1974, с. 86).
Словом, репертуар десятилетия был разнообразен по жанрам, темам, и проблемы, затронутые в фильмах, решались на разных уровнях мастерства и были рассчитаны на различные уровни восприятия. Эпопеи, драмы, комедии, детективы. Мелодрамы, вестерны, мюзиклы и пародии...
Удачи были во всех жанрах, исключая, пожалуй, картины на военную тему. Здесь, думается, со времени «Пейзажа после битвы»(1971) Вайды не было создано ни одного выдающегося фильма. Может быть, так случилось из-за того, что ведущие мастера польского кино обратились к современности, а военная тема досталась режиссерам средней руки.
Дебюты молодых
В конце 1970-х польская критика заговорила о «четвертом поколении» в национальном кинематографе.
В самом деле, приход в режиссуру в 1975-1976 годах талантливой молодежи показал, что дебютанты с ходу завоевали признание зрителей, критики и жюри фестивалей.
Золотой приз «Кинолюбителю» Кшиштофа Кесьлёвского в Москве (1979). Премия за лучший фильм 1979 года «Клинчу» Петра Андреева (приз присужденный редакцией журнала «Фильм»). Награды в Карловых Варах, Мангейме, Канне, Венеции, Берлине...
Польская пресса отводит целые страницы интервью с молодыми мастерами...
В чем причина успеха? В таланте и профессионализме? В знании законов жанра и механизма воздействия на эмоции зрителей?
Думается, прежде всего, в ином – в остроте и свежести взгляда на мир, в стремлении прикоснуться к болевым точкам жизни.
Рассмотрим для примера первый полнометражный фильм Петра Андреева «Клинч» (1979) – драматический рассказ о судьбе рабочего парня ежи (Т. Ленгрен), ставшего профессиональным боксером.
П.Андреев бывший документалист, поэтому не удивительно, что картина снята в подчеркнуто документальной манере – с обилием натуралистических подробностей, порой даже физиологически неприятных.
Изображение нарочито затемнено, никакого искусственного света. Применение искажающей широкоугольной оптики подчеркивает фактуру, объемность интерьеров. Основная тема фильма перекликается с «Константой» и «Контрактом»: бунт персонажа-нонконформиста против махинаций дельцов...
В интервью, данном режиссером журналу «Фильм» (Моральность карьеры // Фильм. 1979. № 46, с. 4) Петр Андреев подчеркнул, что «карьеру делают все. Все дело в том, каким способом ее делают». Ему вторит и критики Оскар Собаньски: «Спортсмены – только повод для показа обычной карьеры (...). Андреев трактует спорт только как пример. Речь идет о морали нашей жизни» (Собаньски О. Клинч // Фильм. 1979. № 46, c. 9).
Таким образом, и сам режиссер и один из ведущих польских кинокритиков утверждает: картина имеет обобщающий смысл, спорт в ней – лишь предлог для показа жизни всего польского общества 1970-х.
Как же оно представлено на экране?
Руководители спорткомитета – разжиревшие бизнесмены и развратники, для которых боксеры – средство для наживы, тренеры – отчаявшиеся, спившиеся люди...
Главный герой показан в мрачной, гнетущей обстановке. Старый, грязный завод. Рядом с проходной – пивная, частые пьяные драки (съемка скрытой камерой) и т.д.
Таков мир «Клинча»... Мир общества накануне глобального кризиса...
Бывший оператор Анджей Костенко для режиссерского дебюта избирает жанр мелодрамы на современную тему. В его картине «Один на один»(1978) заняты прекрасные актеры Петр Фрончевски и Янвига Янковска (сыгравшая главную роль в фильме Я.Моргенштерна «Нужно убить эту любовь»).
...Тридцатилетний обеспеченный модельер, вокруг которого постоянно вьются легкодоступные женщины, и во многом наивная двадцатилетняя студентка... Их отношения складываются вполне «современно»: любовные встречи без обременяющих взаимных обязательств.
Роковой случай: какие-то подонки до полусмерти избивают модельера, и тот слепнет…
Вот хрестоматийный крутой поворот сюжета классической мелодрамы!
Конечно, теперь все вчерашние друзья и поклонницы отвернулись от героя. Уже ни к чему ему будут новенький автомобиль и роскошно обставленная квартира...
И только один человек остается рядом с ним... Кто?
Догадаться не трудно – конечно же, юная студентка...
Умело используя классическую схему мелодрамы, безотказно воздействующей на чувства зрителей, Анджей Костенко концентрированными дозами нагнетает мрачные, отвратительные подробности и детали: беспросветное в своем безобразии пьянство главного персонажа, акцентирует его физическое увечье, рифмующееся с ущербностью окружающего мира.
Привычного для мелодрамы счастливого конца нет – бывший модельер пытается отравиться в каком-то сквере.
Камера долго снимает, как бедняга бьется в конвульсиях, как его тело сводят судороги (злая пародия на финал «Пепла и алмаза»?).
И хотя Анджей Костенко все-таки не дает своему герою умереть, ощущение безысходности, одиночества человека среди людей, не проходит...
Еще более страшная, натуралистическая цепь событий возникает в дебюта Филиппа Байона «Ария для атлета» (1979).
В этой ретродраме из жизни бродячих цирковых артистов начала века вновь главной становится тема одиночества человека среди людей, тема враждебности, порочности мира...
Ф.Байон вводит в картину ряд кровавых сцен насилия. В жутком фиолетовом свете, в дымном, колышущемся мареве проходят перед зрителями оргии главного героя и его друзей. Пьянство, наркомания, разврат, отсутствие малейшего намека на духовное общение...
Все здесь основано на физиологии: от выступлений на арене до постельных сцен. Порой изобразительный ряд дан в контрапункте с сутью изображаемого. Причудливые, изощренные цвета и композиции кадров еще ярче прочерчивают основную мысль фильма: за внешней красивостью таится изъян, ущербность, порок.
Как и «Клинч», «Ария для атлета» тоже своего рода пессимистическое обобщение, выполненное с виртуозным блеском режиссуры, монтажа, работы оператора и художника.
А вот «Грешная жизнь Франтишека Булы»(1980) Януша Кидавы кажется фильмом довольно оптимистичным.
Главный герой фильма – тоже артист бродячего цирка – Франтишек (А.Грабарчик), сын шахтера из Шленска, сам бывший шахтер...
Вначале кажется, что жанр фильма – фарс. Комизм на грани пристойности, забавные любовные похождения персонажа, сатирически-иронические зарисовки быта бродячих артистов приграничных районов довоенной Польши...
Но постепенно в фильме появляются тревожные мотивы (смешной – пока еще – новоявленный фольксдойч, кичащийся своими родственниками в Германии, сбор пожертвований на пулемет для пограничников).
Сентябрь 1939. Немцы занимают Шленск почти без единого выстрела...
И тут Януш Кидава показывает зарождение польского сопротивления, и среди непокоренных – свободолюбивый весельчак Франтишек...
Не все эпизоды в фильме равноценны, некоторые характеры не разработаны, лишь намечены эскизно. Но надо учесть, что это только второй фильм талантливого молодого режиссера (первым был «Горизонтальный пейзаж», 1978).
За десятилетие 1970-х в Польше было выпущено около 300 фильмов. Среди них было немало картин, поставленных дебютантами.
Каким будет завтрашний день польского кино?
Александр Федоров, 1982