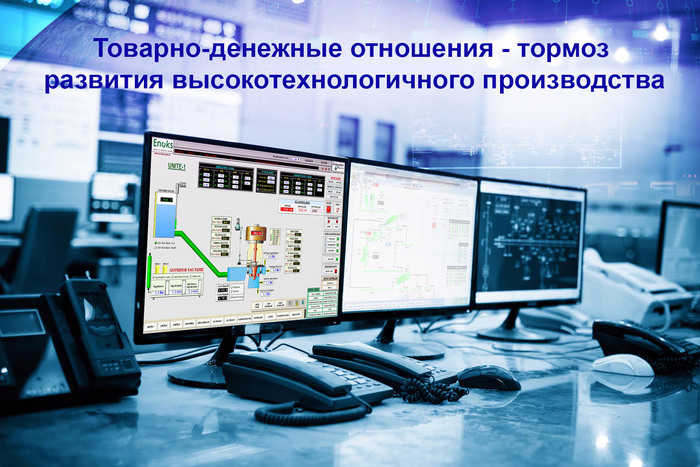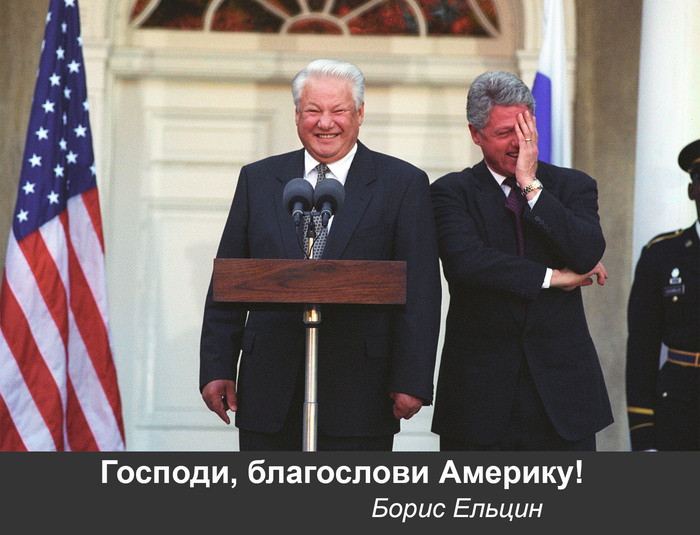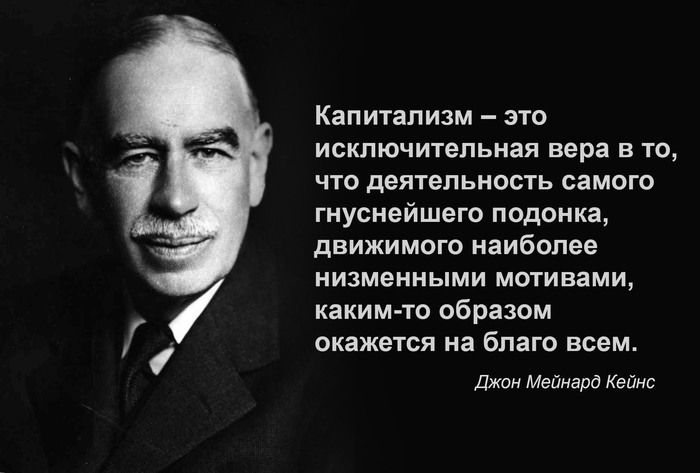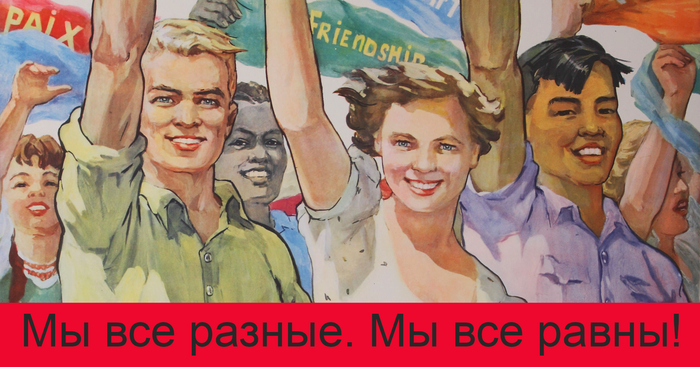Почему дураки не ходят строем
Популярное в армейской среде выражение – что ж, если вы такие умные, почему строем не ходите? – прямо не указывало, как должно перемещаться в пространстве дурачьё, однако, инвертируя логику старшинской мудрости, можно предположить, что хождение строем - дело для неё не обязательное. Но так ли это?
Проведем умозрительный эксперимент, в ходе которого рассмотрим поведение двух групп туристов, условно обозначенных как «умные» и «дураки». Определим «умных» как людей, владеющих всей необходимой информацией и обладающих достаточными интеллектуальными способностями для ее верной интерпретации в целях достижения поставленной цели. Как «умных», так и «дураков» посадим отдельно друг от друга, выдадим каждому карту, навигационные приборы, необходимую экипировку и поставим задачу - из пункта «А» прибыть в пункт «Б». Через какое-то время, проанализировав ситуацию, каждый из умников самостоятельно найдет наилучший возможный маршрут, для решения данной задачи. Будут ли их маршруты сильно отличаться? Сомнительно. Чем точнее и подробнее исходная информация, тем ближе решение к своей единственности. На стадии же реализации, «умные» предпримут примерно одинаковые действия, т. е., как раз и «пойдут строем», причем извлекая дополнительную выгоду из своей организованности, распределив обязанности между участниками группы, рационализировав общие усилия путем походной специализации. В своей единственности истина весьма тоталитарная и нетерпимая девица. Шаг вправо, шаг влево и она исчезает, уступая место миражам заблуждений и лживому сладкоголосью частных интересов.
С умными всё ясно. Эти никогда ничего не примут на веру, убедятся в истинности исходных данных, в безупречности выводов, после чего только и поступят наиболее разумным образом. Кстати, наличие возможности так поступать и именуется прекрасным словом свобода. Иное дело, дурачьё! Как они украшают мир своим буйным пустоцветьем! Как сильно в них пешечное желание при минимуме усилий превратиться в ферзя! Получив аналогичное задание, каждый станет действовать своим уникальным и неповторимым образом. Кто-то, повертев недоуменно в руках карту, завернет в нее колбасу на дорожку; другой, понажимав наугад кнопки спутникового навигатора, выбросит непонятную игрушку и положит на освободившееся в рюкзаке место книгу анекдотов, а иной решит всех перехитрить и доехать на попутке, не заморачивая себя излишне фактом отсутствия какой-либо дороги к пункту назначения.
Просвещенный демократ, разумеется, усмотрит в идущих строем «умниках» проявление тоталитаризма и пренебрежения «правами человека», в то время как потерявшееся по лесам и весям дурачьё с либеральной точки зрения будет являть собой олицетворение свободы, демократии и плюрализма. Главное в дурацкой «логике» - не допустить «единомыслия», единой идеологии, одной для всех истины. У каждого должна быть своя «истина», своя «правда», свой «интерес» - хватит ходить строем! Деидеологизация!
Эта стратегия известна и используется с незапамятных времен в качестве принципа - разделяй и властвуй. Противника следует развести по взаимно противодействующим «интересам». Учителей отделить от врачей, рабочих от инженеров, русских от нерусских, православных от неправославных, родителей от детей. Всеми средствами поощрять неравенство, соперничество, взаимную вражду. Натравить одних людей на других, измотать в изнурительном, бессмысленном противостоянии. Посредством агрессивной культурной экспансии использовать вкусовые, эмоциональные, возрастные особенности человеческой психики для атомизации общественного сознания, для создания атмосферы враждебного окружения. Заставить каждого в соседе видеть не соратника, не единомышленника, а врага, конкурента в борьбе за кусок хлеба.
Кто этим занимается и какие цели преследует? Разумеется, надо смотреть, кому это выгодно. Очевидно, есть интерес внешних империалистических кругов в устранении геополитического конкурента и захвате его богатейших природных ресурсов. Эти действуют адресно, через влиятельных предателей в государственных и общественных органах. Например, какой-нибудь «неправительственный фонд» тихонько предлагает номенклатурной дурёхе в министерстве образования подписать к публикации в учебнике карту, в которой часть земель российских окрашена в цвет сопредельного государства. Для дурехи деньги большие, риск же невелик. Кто будет разбираться в цветах раскраски столь далеких от Садового кольца территорий! В случае чего всегда можно оправдаться - техническая ошибочка вышла, без злого умысла! Тысячи враждебных нашему народу профессионально работающих «специалистов» круглосуточно изыскивают лазейки в защитной системе государственного организма и, используя разбуженный «материальный интерес» «ответственных работников», внедряют в систему бесчисленные «трояны» и «вирусы» с ничтожными затратами, выполняющих свою чудовищно разрушительную «работу».
Есть ещё сплоченный, классовый интерес российских номенклатурных компрадоров, торгующих народным добром, присваивающих огромные средства в целях личного обогащения, беззастенчиво грабящих свой народ. Есть интерес профессиональных и «творческих» «элит» побольше урвать, подороже себя продать. Все эти круги, будучи сплоченными, повязанными круговой порукой, нуждающимися друг в друге только и могут сохранить свое привилегированное положение за счет насаждения смыслового хаоса, «плюрализма», «общечеловеческих ценностей» в головы «дорогих россиян», низводя людей до положения бездумных, самодовольных биороботов, средствами информационного контроля за сознанием, программируемых под любые задачи.
Таким образом, дураков вполне можно построить и повести в нужном направлении. Вопрос лишь в том, нужном кому? Если умные, обладающие знанием люди, в равной степени осознают цели и средства их достижения, а действия идущих впереди им очевидны и понятны, то построенное в колонну дурачье будет вынуждено всецело полагаться на веру в благонамеренность своих лидеров, на их слова и речи. Дуракам даже могут дозволить выбирать себе поводырей, исходя из соображений спортивности походки, остроумия, артистизма, наличия шарма и телегеничности. И оказавшись по уши в болоте, они не торопятся обвинять в этом своих вождей. Получив «свободу» спасаться каждому на подходящей кочке, они верят во временность трудностей, в то, что все зависит от их прилежания и трудолюбия, что все они находятся в равных условиях, что выживать должны «сильнейшие» и, конечно, что могло быть ещё и куда хуже. С последним нельзя не согласиться, тонуть и падать всегда найдётся кому и куда.
Но разумный человек от дурака отличается не только развитым интеллектом. Принципиальная разница между ними состоит в том, что система нравственных ценностей, на основании которых «умный» ставит перед собой жизненные цели, выстроена в системе абсолютных этических координат. Он верно ориентирован в категориях добра - зла.
Как его цели, так и средства их достижения безупречны с этической точки зрения. Причем, это не значит, что ему приходиться совершать над собой насилие, подавляя усилием воли эгоистичные устремления к удовлетворению своего тщеславия. У него просто нет неразумных, иррациональных потребностей. Нечего подавлять. Он не нуждается в славе, в зависти окружающих, в предметах роскоши и особняках-имениях, в лимузинах и океанских яхтах. Все это ему неинтересно. В отношениях с другими людьми он придерживается естественного принципа равенства и взаимного уважения к свободе каждого. Но и не потерпит никакого ограничения своей свободы, кем бы то ни было. Наблюдая «возвышение» над людьми какой-либо «успешной особи», он испытывает не зависть, не желание подражать, а законное чувство возмущения поруганной справедливостью, как к хаму, который, расталкивая окружающих, лезет без очереди в автобус.
А как же дурак? Думаю, нет смысла смаковать в подробностях, подбирать живописные эпитеты, наносить кистью яркие мазки на портрет нашего героя. Явление морфологически слишком прихотливое и обманчивое, полное противоречий, особенностей и самых экзотических нюансов, чтобы выделить в нём нечто общее, видообразующее, наподобие шести лапок у насекомых. Но исследовать объект, все же стоит, пусть и методом исключений несущественных признаков, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что же там будет являть собой остаток. Конечно, сразу отбросим всякие национальные, расовые, половые, профессиональные, а, немного поразмыслив и возрастные признаки. Представителей перечисленных групп можно с равным успехом найти и среди умных и среди, скажем мягко, всех прочих. Сложнее дело обстоит с образованностью. Кто разумнее, шахтер с десятью классами средней школы, каждый день, без всякого принуждения, отправляющийся на работу в забой или высоколобый интеллектуал, с высшим математическим образованием, разрабатывающий замысловатые схемы грабежа доверчивых сограждан посредством финансовых пирамид? Насколько правомерно наличие профессиональных, научных знаний, творческих способностей считать признаком разума?
Вспоминаются перестроечные годы, когда телеэкраны страны заполнили толпы пророков, экстрасенсов, астрологов, врачевателей по всем печалям и болям, заряжателей банок с водой, дипломированных колдунов, валютных «путан», успешных кооператоров, заплативших миллионы рублей партвзносов со своих доходов, говорливых артистов, балерин, именитых кинорежиссеров и музыковедов. Запомнились и особняком гастролировавшие благообразные старцы с пуком седины на голове, «божьи одуванчики», с открытыми, светлыми ликами и искренними, честными, насколько возможно, глазами, «узники совести» и «жертвы тоталитаризма», со смущенной улыбкой, зачитывающие восторженные записки от очарованной галерки. Совесть нации! - с благоговением восклицал пообносившийся советский интеллигент, выходя из зала. Как эстрадные колдуны, так и концертные седоголовые прохиндеи, делали свой нехитрый бизнес, со здоровым аппетитом окормляясь вокруг неожиданной востребованности.
Наконец-то мы дожили до времени, когда можно почти не врать! – с восторгом восклицал в телекамеру освобожденный от «гнета цензуры» бывший партийный газетчик. «Почти не врать» - это здорово! Это, ведь, почти говорить правду! Преподаватели марксизма-ленинизма соперничали с журналистами в откровенности, простодушно признаваясь перед многомиллионной аудиторией, что всю жизнь были вынуждены лгать студентам, вести двойную игру, держа «фигу в кармане». Де, совесть их тяготилась вынужденным двурушничеством, но что можно было поделать? Виновата была «система», не позволявшая дремавшей либеральной мысли вырваться на свободу, воспеть ценности эгоизма и «прав личности», заклеймить гневным словом «равенство в нищете», «отсутствие интереса» и «коммунистическую утопию».
Вещи, изрекаемые пророками, зачастую противоречили, как мудрым словам оракулов, как совестливым откровениям жертв, узников и тираноборцев, так и всему тому, что все они вместе говорили еще несколько лет назад, что, впрочем, не снижало всеобщего ликования по поводу открытия замалчиваемой долгие годы правды и восстановления попранной исторической справедливости. Конечно, можно было бы не придираться по пустякам к словам гениев, лауреатов нобелевских премий, прославленных ведунов, академиков, наследников престола и потомков августейших постельничих - подумаешь, один видит спасение России в восстановлении монархии и земств, другой - в интеграции в мировую экономическую систему, третий в расчленении страны на полсотни этнически однородных государств, четвертый в фермерстве и семейном подряде, если бы не одно настораживающее обстоятельство. Дело в том что, коль скоро истина единственна, то, как и у «умников» с навигаторами - маршруты, так и у пророков из телевизора - пути «спасения России» должны были бы совпасть. Однако, весь перестроечный галдёж, подозрительно напоминавший действия дурачья в приведенном примере с перемещением из пункта «А» в пункт «Б», никак не был похож ни на истину, ни на ее поиск.
Не в лучшую сторону от телетолковищ ведунов отличался и горбачевский «съезд». Толпившийся у микрофонов сброд из «народных избранников», торопившийся отметиться на этой всесоюзной ярмарке шутов, проголосить что-то «за интересы своих избирателей» наводил на самые грустные размышления. Всё ли можно говорить? Чем ограничена свобода «демократической» говорильни? Только ли глупостью людской или есть какие-то иные соображения? Ведь русский язык один из богатейших языков мира, включающий в себя сотни тысяч слов, понятий, имеющий три рода, шесть падежей, три склонения, позволяет столько всего насклонять и наспрягать, что не будет никакой возможности в течении не слишком уж долгой человеческой жизни прослушать и осмыслить весь этот невразумительный поток депутатского сознания.
Нет, надо с сожалением признать, наличие образованности еще не свидетельство ума, который исключает апелляцию к вере, к чувствам, к символам, к заклинаниям, а самое существенное, не пользуется словом в целях достижения корыстных, эгоистичных целей. Пожалуй, здесь и кроется самое существенное отличие дурака от разумного человека – в приоритете его частного интереса над общественным. Использование им общества лишь в качестве питательной среды для удовлетворения своих иррациональных, или, говоря проще, дурацких потребностей. При том, нанося обществу вред, который в конечном итоге, оборачивается против него самого же. Вроде советского обывателя, лелеявшего пакостную мыслишку оказаться выше ближнего своего в смуте грядущего тотального неравенства, явить миру свои глубоко запрятанные таланты, не траченные способности, не вознагражденные и не оценённые по достоинству валютно и рублёво.
Представим себе крайнюю ситуацию. Пассажирский авиалайнер совершает аварийную посадку. На борту вспыхивает пожар. Как поведут себя разумные люди? Подчиняясь командам экипажа, оставив багаж, организованно, пропустив вперед женщин с детьми, покинут воздушное судно. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить себе, что будут делать дураки. Схватив свои сумки и саквояжи, никого не слушая, по головам и телам ринутся они к аварийным люкам. Конечно, создадут затор в проходе, пробку на выходе и сгорят в своем большинстве вместе с самолетом. При всех прочих равных условиях, в случае разумного подхода спасется больше пассажиров, чем при стихийной «самоорганизации».
Идиотизм в чистом виде - редкость. Наподобие византийской монеты в коллекции нумизмата. Особенно на государственном уровне принятия решений. Первый признак настоящего, «правильного» идиотизма – от него страдают все, - и окружающие, и сам его автор. Источник подобного феномена – обычная, тривиальная человеческая глупость. Но гораздо чаще, под внешне идиотским решением скрывается вполне просчитанный корыстный расчет, стремление воспользоваться чьим-то незнанием, беспомощностью, зависимостью в личных целях. Упование перестроечных недоумков на «невидимую руку рынка», на «экономические законы», на пресловутые «тропинки», которые народ сам протопчет в нужных направлениях, как и следовало ожидать, привели лишь к полному торжеству марксистско-ленинской теории, предсказавшей историческую ограниченность частной собственности и ее неэффективность в условиях монополистического капитализма еще в позапрошлом веке. Но, если звёзды зажигают, по-видимому, кому-то это надо. Кто-то готов примириться с вопиющей экономической неэффективностью «рынка», разрушением собственной страны, обнищанием своего народа ради каких-то высших целей? Каких? Может быть, «свободы»? Может ради торжества идеи либерализма?
Помнится, в горбачевские времена, на какой-то сессии Верховного Совета РСФСР, в нарушение ритуала единодушного одобрения, при голосовании нашелся один «воздержавшийся». Разумеется, телевизионщики ринулись к возмутителю спокойствия, торопясь запечатлеть момент рождения «разномыслия», плюрализма мнений на политической сцене гибнущей страны. Никого не интересовала суть обсуждаемого вопроса, в чем конкретно состояло несогласие депутата с принимаемым решением, насколько оно обосновано. Крупный план, десяток микрофонов ко рту и вот уже самоутверждающийся радетель за народное благо может нести любую чушь миллионам телезрителей. Как он, видите ли, «полагает». Но людей не интересует мнение какой-то говорящей особи, им нужна истина! Мнения интересны о футбольном матче или прочитанной книге, но не по вопросам касающихся жизненно важных устоев государства. Здесь требуются не только глубокие знания закономерностей общественного развития, но и наличие способностей воспринимать проблемы других людей острее, чем свои собственные. Присутствие того, что в классической литературе когда-то именовалось совестью.
Если «элиту» перестроечного призыва составляло в значительной степени чистопородное дурачье, в лице малограмотных журналистов-«рыночников», пустоголовых академиков-«экономистов», юристов, пародистов, идеалистов из «творческой интеллигенции», самозабвенных площадных крикунов-голодранцев, с горящими глазами скандирующих «Рос-си-я! Сво-бо-да! Ель-цин!», то «элита» последующих помётов, «прагматики» и «политические тяжеловесы», были более корыстно, материально ориентированы. Если первые, имевшие способности писать, плясать, петь, складно говорить, рассчитывали лишь на получение возможности продать себя подороже, то партийно-хозяйственные номенклатурщики, не обладая никакими талантами, кроме цепкости в хватании чего бы то ни было, используя свою управленческую осведомленность и корпоративные связи, прибрали к рукам лежавшую на земле власть и «бесхозную» общенародную собственность. И, действительно, позаботились о трудоустройстве говорящих телеголов и писак на малопочтенном поприще превращения своего народа в лишенную разума, здравомыслия, исторической памяти и культурной традиции толпу «свободных» индивидуумов.
Как-то, когда крах «реформ» стал очевиден даже депутатам, одного из наших новороссиянских премьер-кретинов, «народный избранник» спросил, - почему у нас не стало как в Китае? На что тот со сдержанным негодованием ответствовал, - это же другая политическая система! Нельзя же, помилуйте, поступаться «рыночными» принципами в угоду экономической целесообразности!
Поразительное дело. Наукой скрупулезно исследованы пути миграций муравьев на острове Сулавеси, каталогизированы манускрипты древнего Вавилона, изучены особенности сезонной смены погоды на Марсе, но вот на вопросы, затрагивающие жизненно важные интересы сотен миллионов людей, не нашлось более авторитетных критиков, нежели своры экзальтированных юристов-экономистов-юмористов. Бесценный исторический опыт строительства коммунизма несколькими поколениями советских людей был просто отброшен безо всякого анализа, без «разбора полетов», без добросовестного проникновения в истину. Голосистые пустозвоны, именовавшие себя «учеными», как само собой разумеющееся, не утруждая себя какими-либо логическими изысками, несли такую несусветную чушь, что, читая сейчас их галиматью, диву даешься, как простодушно советские люди доверились этим партийным пройдохам. Хохмач-пародист на эстраде может приравнять пустые полки магазинов к плановой экономике, высмеять «колбасные электрички» и воспеть ароматы гниющего Запада – что взять с шута. Но ученому нельзя просто сказать, что жили мы де «не так» - ему надо досконально и непредвзято еще и ответить на вопрос – а почему? В чем суть дела? Он должен расчленить сложное социальное явление на простейшие составляющие, определить их удельные веса и знаки направленности, посмотреть, что делало жизнь человека полноценной, осмысленной, а что мешало жить, тормозило движение общества вперед. Мешанина из слов вроде «жизнь показала», «опыт цивилизованных стран», «демократия», «плюрализм» есть признак полной, абсолютной профнепригодности интеллектуального блудника для добывания хлеба насущного мозгами, а не руками, в поте лица своего. Чем «рынок» лучше плановой экономики? Что такого загадочного может произвести «рынок», чего нельзя было бы запланировать в достаточном количестве и ассортименте? Мощности компьютеров не хватит? Сетевой инфраструктуры? Или мозгов у «элиты»?
Нет, компьютеры и телекоммуникационные сети здесь ни при чем. При желании можно свести в единую базу данных миллиарды и триллионы величин, запрограммировать управляющую систему на оптимизацию транспортных, ресурсных потоков, проконтролировать все стадии исполнения, создать необходимые буферные резервы и мощности, учесть все возможные неожиданности и катаклизмы, начиная от непредсказуемых капризов моды до столкновения Земли с небольшим астероидом. И это будет стоить значительно дешевле, чем обошлась пользователям операционная система Windows. Проблема именно с «элитой». Мыслительных способностей у «элитных» дегенератов только и хватает на понимание несовместимости плановой экономики с рублевскими дворцами, плотными конвертами с бонусами, с заграничными увеселениями, с тем, чем им привычно и посильно заниматься, ради чего и начинались длинные, извилистые хождения к рычагам власти - назначением и распределением, продвижением свояков и подавлением чужаков.
Но как, сравнительно малочисленной «элите» добиться подчинения себе подавляющего большинства народа? Как сделать так, чтобы многомиллиардные кражи номенклатурщиков, афёры финансовых спекулянтов, «бизнес» сырьевых мародёров, собственное зависимое и униженное положение воспринимались людьми как неодолимая неизбежность? Для этой цели существует буржуазное государство, как средство классового насилия и информационного террора, содержащееся, естественно, на средства самих трудящихся. Государство в обществе неравных превращается в концлагерь, на полной самоокупаемости, в котором заключенные сами строят себе бараки, ограду, сами себя кормят, развлекают и охраняют. Разумеется, лагерь, благозвучия ради, называют не зоной, а чем-нибудь вроде «суверенной демократии». Назвали бы и «демократической республикой», если бы не Маяковский, с его политнекорректной «дыркой от бублика». Хозяева же приватизированного государства-лагеря могут и не жить в нём, находя более подходящим для своих измученных непосильными заботами телес скромные обители на теплых берегах средиземноморщины. Очень похоже на то, как российские помещики («эффективные собственники») в своё время, коротали время в Париже, наведываясь в родные пенаты лишь за новой порцией украденных у крестьян денег для невинных европейских утех.
Околонаучными холуями догматизировано утверждение об исключительной «эффективности» частной собственности. Каким образом, при всех прочих равных условиях, изъятие прибавочной стоимости в карман собственника благоприятно воздействует на остальных несобственников? Какая живительная аура для рабочих исходит от трехэтажного особняка владельца их завода и от его вкладов в женевском банке? Из того же идиотского ряда и шумно внушаемая «необходимость» в хозяине. Вот, например, «эффективный» хозяин взял в аренду городской пляж. Обнес колючей проволокой, посадил кассира, охранника, (куда ж теперь без них!) и дерет с трудящихся по сто руб. за удовольствие позагорать на песочке. Не забывает о податях и с торгующих мороженым, водами, закусками. Порядка ради, нанял какого-то небритого типа собирать на пляже мусор и пустые бутылки. Вот и весь «менеджмент»! Да, забыл совсем, ещё благодетель создал новые «рабочие места» - кассира, бухгалтера, охранника, обеспечил «работой» строителей ограждения. После отчисления части «заработанного» нужному чиновному люду, уплаты налогов государству, охраняющего его воровской, классовой интерес, на остаток можно комфортно и дальше паразитировать на труде менее эффективных «нехозяев». Долго, но, к счастью, не вечно. До ближайшей революции.
Вся эта примитивная дурь легла в основу реального преобразования советского общества, привела к уничтожению государственности, невиданных масштабов разрушению промышленности, науки, образования, здравоохранения, обороны. И это ещё не самое страшное. В результате разнузданной пропаганды, сознательного насаждения мракобесия, невежества, бескультурья в общество глубоко внедрены ложные ценности эгоизма, алчности, бессмысленного потребительства, циничного пренебрежения к созидательному труду, выросло целое поколение глубоко отравленных ядом безразличия, корысти, не способных верно сориентироваться в окружающем мире молодых людей, принимающих возможность одних продавать себя, а других - присваивать плоды их труда, за «свободу» выбора, за «демократию», за «священные права» и «вечные незыблемые принципы».
А незыблемые принципы, действительно, есть. Причем их не надо изобретать. Они очевидно вытекают из признания высшей ценностью человеческой личности. Лишь тогда «сетка» этических «координат» получает точку отсчета, верную ориентацию в категориях Добра – Зла. Человеческая личность, а это имеется в виду не только все живущие сейчас на нашей планете люди, но и каждый из еще не родившихся миллионов поколений наших потомков, и есть высшая ценность и цель общественного развития. Все иные «философии», не исходящие из признания сей очевидности – не подлежат ни серьезному рассмотрению, ни, уж тем более, применению как руководства к действию. Как я уже не раз писал, логическим выводом из сказанного является императивность равенства. В условиях равенства снимаются внутренние напряжения в обществе, устраняются ненужные антагонистические противоречия. Жизнь людей обретает принципиально иное качество, позволяющее им жить без страха и насилия, без внешних форм принуждения, следовательно, быть полностью свободными. Единственным отражением подобной этической конструкции в политэкономической плоскости является марксистско-ленинская теория. Реальное равенство и может быть только в бесклассовом, коммунистическом обществе с обобществленными средствами производства, с плановой экономикой, без шкурного «материального» интереса, без кнута и пряника вельможных погонял.
И вот тут есть альтернатива. Или мы все идем строем к человеку, к равенству, к свободе, или каждый уныло бредёт своим путем, без карты и навигатора, в страхе и незнании, направляемый и понукаемый чуждыми внешними силами. И хоть материально заинтересованных дураков, толкающего народ на путь выживания в одиночку - предостаточно, ход истории остановить они не в силах. Будущее за солидарным обществом, где все члены действуют синфазно, согласованно, как атомы активного тела в мощном лазере, слепящее когерентное излучение которого только и способно пронзить просторы Вселенной. И только коммунистическое общество равных, свободных людей сможет оторвать человечество от его земной обители, консолидированным разумом направив к освоению дальних миров, к экспансии жизни в глубокий космос. А то, что сейчас кажется непостижимо сложным для понимания нашим высоколобым юристам-экономистам, будет известно каждому со школьных лет - не каждый строй есть истина, но каждая истина есть строй…