Игра
Давайте поиграем в игру. Говорите маты, а я стих или ответку к ним.
Давайте поиграем в игру. Говорите маты, а я стих или ответку к ним.
«Утро чиновника, получившего первый орден» («Утро после пирушки, или Свежий кавалер»)
П.А. Федотов, 1846. Холст, масло. 48х42 см
Под столом (в правом нижнем углу картины) лежит собака, обратившись к зрителю, так сказать, спиною.
И если уж зашла речь об изображённых здесь живых существах, то вверх по откинутой половинке столешницы ползёт таракан.
А два хвоста и голова селёдки, увы, уже покинуты витальной силой, и, тем самым, уподобились разбитой тарелке и валяющимся здесь опустошённым бутылям (большая в оплётке, полагаю, всё же из под кваса), но этикетку винной так и не смог разобрать, равно как и масть карты, что лежит за сломанным мундштуком. Дама пик, должно быть.
Но зато эта чудная живая кошечка так славно дерёт обивку стула, что прямо слышно: царап-царап!
Даже семиструнка побрякивает ей в ответ, хотя 1-я, 4-я и 6-струны на ней порваны.
Кстати на лацкане мундира значок с цифрой XV. Значит — 15 лет безупречной чиновничей службы.
А книга под стулом в авторстве Фаддея Булгарина — наверняка один из семи томов полного собрания его сочинений, Спб., 1839-1844. Старая прислуга, это как понимаю, в смысле: прежняя, давняя, того ещё времени.
А вот сам герой, хотя и в гражданском чине и после вчерашнего, но уже накрутил себе папильотки в виде лаврового венка и побрился. Вон на столе — помазок, опасная бритва и специальное зеркало стоит повёрнуто на уровень сидящего человека.
А на чём же он сидел? Один стул сломан, второй, вроде, и не двигали. Кругом одни загадки!
Вот, например, ещё: правый рукав его халата, кажется не просто так висит, а как бы натянут на какую то доску, что ли.
Вернувшись ко столу, под которым лежит собака и по которому ползёт таракан, нельзя обойти молчанием колбасу.
Как выглядела колбаса отечественная закусочная в 1846 г.? Примерно как сейчас.
С теми же вкраплениями жира, правда, без сои, ароматизаторов, E250 и пр., но, внимание, её и тогда, 164 года назад, резали на газете! Вот это традиция!
Заодно отметим шикарную скатерть: с трубами, якорями, вымпелами, морскими раковинами и звёздами, знамёнами, и почти что прямо гиппокампами. А что это за газета, на которой резали колбасу? Да это «Ведомости С.-Петербургской городской полиции», издаваемые с 1839 г. Но есть тут одна штука.
Герой не просто в тщеславной гордыне указует себе на грудь с орденом.
Это орден св. Станислава 3-й степени, носимый в петлице или на груди на орденской ленте шириной 2,8 см. Девиз: «Praemiando incitat» — «Награждая, поощряет». Орденский праздник: 25 апреля (8 мая). Конечно, Св. Станислав 3-й степени — тогда самый младший в порядке старшинства российских орденов. Им мог быть награжден «любой подданный Российской Империи и Царства Польского, кто преуспеянием в Христианских добродетелях или отличною ревностию к службе на поприще военном, как на суше, так и на море, или гражданском, или же в частной жизни, совершением какого-либо подвига на пользу человечества или общества, или края, в котором живет, или целого Российского государства».
Его уснувший под столом гость, который сокрыт в тени и едва заметен, — «тоже кавалер», отставной солдат с двумя Георгиевскими крестиками на груди.
Серов, Суриков, Врубель, Васнецов, Репин, Поленов, Савинский, Борисов-Мусатов, Грабарь — знаменитые чистяковцы, в разное время прошедшие жесткую школу Павла Петровича. Фразы учителя, ставшие афоризмами, ученические работы авторов будущих шедевров, их воспоминания — все это показывает образ учителя настолько неординарного, что хочется самому записаться в «чистяковский класс». Хотя бы заочно!
Его систему воспитания ласковой не назовешь, но высшая похвала педагогу — это и восторженные воспоминания его воспитанников, и их изумительные работы. Как наставник Чистяков смог раскрыть своеобразие таланта каждого ученика согласно его дарованию — таково было его призвание.
«Желал бы называться Вашим сыном по духу» — писал В. Васнецов в письме своему любимому учителю
Павел Петрович Чистяков (1832−1919) часто рассказывал своим ученикам, как приехал в Петербург пареньком из Тверской губернии с единственным желанием — стать художником. Закончив Академию с несколькими золотыми медалями, он отправился в так называемую «пенсионерскую» (оплачиваемую Академией) поездку по Европе. Вернувшись на родину в 1870 году, получил звание академика за картину «Римский нищий», которая к тому же была очень благосклонно встречена на Всемирной Выставке в Лондоне. В 1872 году Чистяков стал адъюнкт-профессором Академии, что подразумевало лишь педагогическую деятельность и полностью исключало возможность принимать участие в делах учебного заведения.


Работы Чистякова
Своим нестандартным взглядом на методику преподавания, — а в Академии они считались незыблемыми, — и своими взглядами на искусство Чистяков вызвал неудовольствие руководства, поэтому членом Академического совета он стал только в 1892 году. Прохладные отношения с начальством нисколько не волновали молодого педагога, он спешил в классы, всегда переполненные на его занятиях.
Павел Петрович пытался научить, насколько в искусстве важно знать его законы, что первооснова принадлежит рисунку, и тому что для художника нет недостойной и легкой задачи, «что в искусстве все одинаково трудно, все одинаково интересно, важно и увлекательно». Грабарь оставил нам любопытные воспоминания о том, как Чистяков встречал «новеньких»:
«Придя в мастерскую, новенький в восторженном настроении садился перед моделью и начинал ее рисовать, а иногда и прямо писать. Являлся Чистяков, и, когда очередь доходила до него, учитель принимался разбирать каждый миллиметр начатого этюда, причем свою уничтожающую критику сопровождал такими прибаутками, словечками, усмешками и гримасами, что бедняка бросало в холодный пот и он готов был провалиться от стыда и конфуза в преисподнюю. В заключение Чистяков рекомендовал бросить пока и думать о живописи и ограничиться одним рисованием, да притом не с живой натуры, которой ему все равно не осилить, и даже не с гипсов, а „с азов“. Он бросал перед ним на табуретку карандаш и говорил: „Нарисуйте вот карандашик, оно не легче натурщика будет, а пользы от него много больше…“ На следующий вечер снова являлся Чистяков, в течение десяти минут ухитрявшийся доказать „новенькому“ воочию, что он не умеет нарисовать и простого карандаша. „Нет, — говорил он ему, — карандашик-то для вас еще трудненек, надо что-нибудь попроще поставить“. И ставил детский кубик».
Надо сказать, что Чистяков был меток в выражениях, и его комментарии били «не в бровь, а в глаз». В памяти студентов навсегда остались его знаменитые афоризмы — ироничные, колкие, насмешливые:
«У Вас чемоданисто» или «Ну и чемодан!» — указывал профессор на неуклюжий, грубый рисунок с неумелой лепкой формы и полным отсутствием вкуса. «Верно, да скверно» или «Так натурально, что даже противно» и затем пояснял: «Не надо стараться написать всё точь-в-точь, а всегда около того, чтобы впечатление было то самое, как в природе».
«Большой талант — но художник не выйдет».
«Когда рисуешь глаз, смотри на ухо» — не сразу ученики понимали всю премудрость замечаний своего учителя, но запоминали их, и со временем начинали понимать суть высказываний мастера.
«Чтобы найти себя, будьте искренни. Покрепче стучитесь в дно души своей — там чудный родник, в нем таится творчество"
П.П. Чистяков
Для Чистякова самыми главными были талант и знания: «Чувствовать, знать и уметь — полное искусство», говорил профессор и вел своих учеников в Эрмитаж, объясняя на работах старых мастеров и древних греков секреты мастерства. Ученики обожали его слушать.
Серов вспоминал о том, что учитель так образно объяснял законы искусства, что сразу становилось понятным, насколько глубоки должны быть знания анатомии для работы с натурой: «Вы подходите с учениками к статуе Гермеса; такая статуя, как широко вылеплена, как просто. Эта полная силы и молодости рука… а возьмите свечку, осветите свечку сбоку, и на этой дивной, по-вашему широко исполненной руке, вы в запястье увидите почти все косточки, на тыльной части кисти увидите сухожилья и между ними едва намеченную, но точной формы жилку».
Чистяков настолько интересно преподносил свои взгляды на искусство, что к нему приходили учиться уже такие маститые мастера, как Репин и Поленов. О занятиях с Чистяковым Репин вспоминал: «У Поленова мы устроили рисовальный класс и были до потери всех прежних понятий наших об искусстве удивлены, очарованы и наполнены новыми откровениями Чистякова, с совершенно новой стороны подходившего к искусству». Занятия продолжались не больше года, но и Репин, и Поленов всегда считали себя учениками именно Чистякова.
«Он — наш общий и единственный учитель», — не раз говаривал Репин. И Чистяков горд был тем, что одними из первых его учеников были Репин и Поленов. Много лет спустя он писал: «Поленов, Репин по окончании курса в Академии брали у меня уроки рисования. То есть учились рисовать ухо гипсовое и голову Аполлона. Стало быть, учитель я неплохой, если с золотыми медалями ученики берут уроки рисования с уха и головы, да надо же было сказать новое в азбуке людям, так развитым уже во всем».
Впервые Поленов встретился с Чистяковым, когда тот еще сам учился в Академии. Родители Поленова пригласили его давать уроки детям — Василию и Елене, заметив у них склонность к рисованию.
Впоследствии, когда Поленов жил пенсионером в Италии и Франции, он вел постоянную переписку с учителем. Чистяков давал советы и делился новостями Академии: «Есть здесь некто ученик Суриков, довольно редкий экземпляр, пишет на первую золотую медаль. В шапку даст со временем ближним. Я радуюсь за него. Вы, Репин и он — русская тройка…».
А между тем, отношение к любимчикам было таким же строгим, как и ко всем ученикам. Всю жизнь потом Суриков любил повторять услышанное от учителя: «Будет просто, как попишешь раз со сто!». И под строгим взором Чистякова Суриков старался преодолеть академические штампы в исторической картине. Самого Чистякова всегда привлекали исторические темы, его дипломная работа «Великая княгиня София Витовтовна на свадьбе в. к. Василия II Темного» в 1861 году принесла золотую медаль и право на заграничную командировку.
Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежащий некогда Дмитрию Донскому
А работа Сурикова «Милосердный самарянин», удачно композиционно выстроенная, была удостоена малой золотой медали и допущена к конкурсу на большую золотую медаль.
Однако за программную работу «Апостол Павел объясняет догматы веры» Суриков получил звание художника 1 степени без присуждения золотой медали. Эта несправедливость разгневала Чистякова и он, не сдерживая своего негодования, пишет Поленову: «У нас допотопные болванотропы провалили самого лучшего ученика во всей Академии Сурикова за то, что мозоли не успел написать в картине. Не могу говорить, родной мой, об этих людях: голова сейчас заболит и чувствуется запах падали кругом. Как тяжело быть между ними. Ученики меня, кажется любят и понимают, на деле даже некоторые. Держусь всеми силами в стороне, избегаю даже встречи с мудрецами».
Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста
Вот все его ученики:
В. Э. Борисов-Мусатов
Ф. Ф. Бухгольц
В. М. Васнецов
М. А. Врубель
И. М. Грабовский
А. И. Кандауров
Н. Д. Лосев
В. Д. Поленов
Е. Д. Поленова
Ю. М. Пэн
И. Е. Репин
Н. К. Рерих
А. И. Рябушкин
Н. С. Самокиш
В. А. Серов
В. И. Суриков
В. Е. Савинский
А. В. Фищев
К. Л. Хетагуров
Вот картины Павела Чистякова:
Алкогольные мемы: смеёмся, но помним меру. Ведь лучший коктейль – это хорошее настроение и немного ответственности!
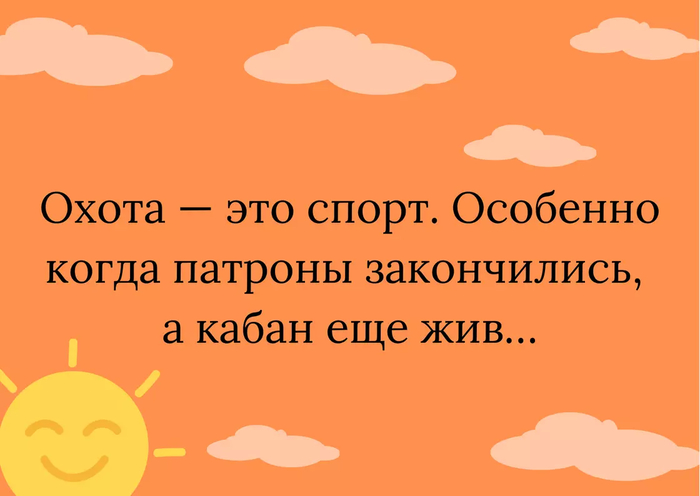
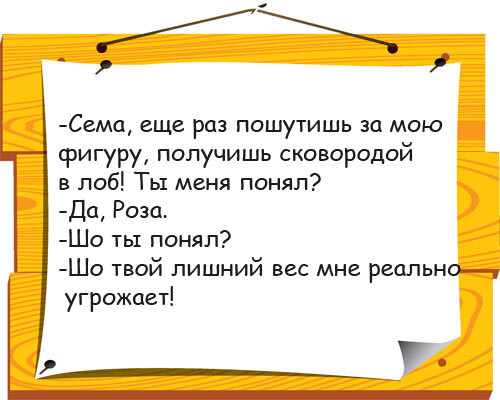
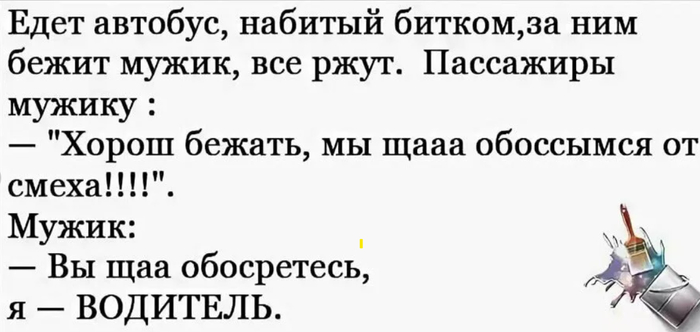
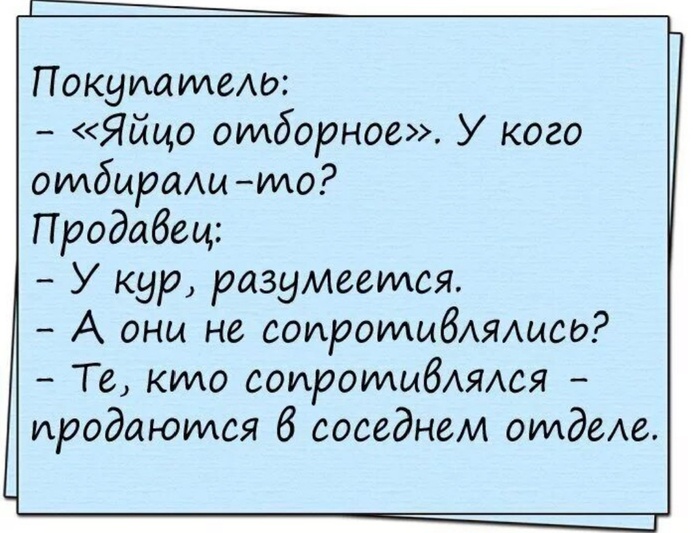
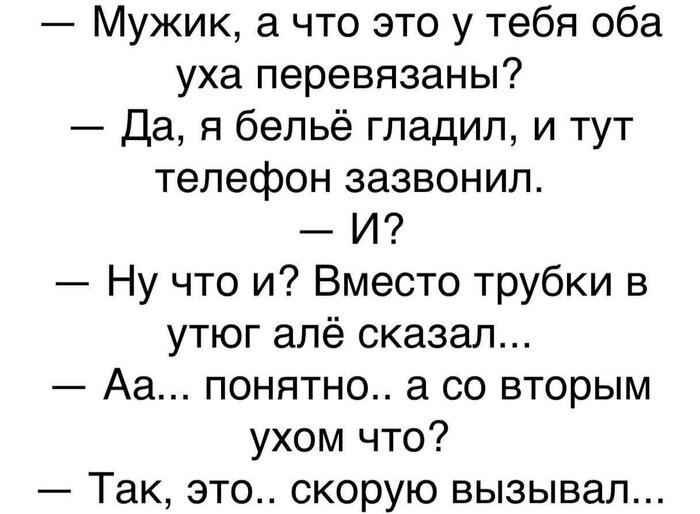
Фильм "Обезьяна" (2025) основан на рассказе Стивена Кинга и рассказывает историю двух братьев, которые находят загадочную игрушечную обезьяну. Смерти в фильме играют ключевую роль, подчеркивая тему хрупкости и непредсказуемости жизни. Игрушка становится катализатором трагических событий, которые происходят хаотично и без логики. Режиссёр и сценарист — Осгуд Перкинс. В главных ролях — Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайен, Рохан Кэмпбелл, Сара Леви, Адам Скотт и Элайджа Вуд.
Вот списков смертей:
Владелец ломбарда — один из его внутренностей был вырван втягивающимся гарпуном после того, как ему выстрелили в живот из гарпунной пушки
Энни Уилкс — случайно обезглавлена поваром с помощью лопатки
Лоис Шелбурн — умерла от неожиданной аневризмы головного мозга
Дядя Чип Циммер — жестоко растоптан насмерть 67 лошадьми.
Тётя Ида Циммер — пронзена столбом с табличкой после того, как её голова загорелась от плиты, когда она нанесла на лицо медицинский спирт, упав лицом в коробку с рыболовными крючками
Неизвестная женщина — взорвалась на куски после того, как прыгнула в бассейн с электричеством, устроенным Обезьяной
Митчелл Макдоннелл — торс, разорванный газонокосилки.
Берт Бергерсон — лицо расплавилось от пара из кофемашины
Игрок в гольф — укушен коброй в горло
Барбара — разорвана на куски падающим дробовиком
Дуэйн — задохнулся, наступив на грабли, из-за чего его вейп попал ему в рот и в горло
Рики — нижняя челюсть отвалилась после того, как в его рот залетел улей с осами.
Два неназванных человека — разбились насмерть, упав с самолёта
Безымянная женщина — повешена на своём парашюте
Билл Шелберн — обезглавлен шаром для боулинга, выпущенным из пушки
Неизвестный мужчина(Похоже, художник) — пронзён доской для сёрфинга, торчащей из туловище.
Младенец — сгорел заживо в своей коляске
Десять чирлидерш — обезглавлены грузовиком.
Всего умерших 28
