
Закон
17 постов

17 постов

34 поста

66 постов
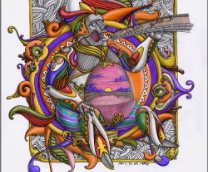
13 постов
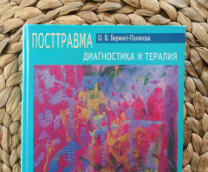
100 постов

18 постов

17 постов

39 постов

72 поста

27 постов

68 постов

15 постов

62 поста

14 постов

21 пост

13 постов

47 постов

36 постов
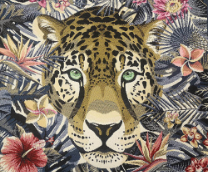
16 постов

20 постов

17 постов
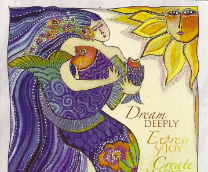
19 постов
Пост в Лигу психотерапии.
"Современные психотерапевты склонны придавать слишком большое значение постановке диагноза. Заботясь о ведении дел, администраторы требуют, чтобы терапевты сразу ставили точный диагноз, а затем приступали к курсу быстрой, фокусированной терапии, которая подходила бы к данному диагнозу. Звучит неплохо. Звучит логично и рационально. Но, к сожалению, имеет слишком мало общего с действительностью.
Такой подход — всего лишь иллюзорная попытка оправдать применение научной точности там, где она нежелательна и, в принципе, невозможна.
Хотя диагноз, бесспорно, необходим для определения курса лечения многих тяжелых заболеваний с биологическим субстратом (например, шизофрении, биполярных расстройств, тяжелых эмоциональных расстройств, височной эпилепсии, наркотической интоксикации, органических заболеваний или заболеваний мозга под воздействием токсинов, дегенеративных причин или инфекционных агентов), диагноз довольно часто приводит к обратным результатам при ежедневной психотерапии, имеющей дело с куда более здоровыми людьми.
Почему? По одной простой причине — психотерапия состоит из последовательного процесса раскрытия, в ходе которого терапевт пытается узнать пациента как можно лучше.
Диагноз же ограничивает видение, снижает возможность относиться к другому как к личности. После постановки диагноза мы склонны не замечать те черты личности, которые не укладываются в определенный диагноз, и, соответственно, придавать большее значение аспектам, подтверждающим первоначальный диагноз.
Более того, диагноз может выступать эдаким самоактуализирующимся пророчеством. Отношение к пациенту как к «истерику» или находящемуся «в пограничном состоянии» способствует развитию и сохранению именно этих черт.
И действительно, существует очень продолжительная история влияния ятрогенных расстройств на форму клинической организации, включая и текущие споры о множественном расстройстве, и о вытесняемых из сознания воспоминаниях о сексуальном насилии. При этом необходимо помнить и о низкой надежности установления категории личностного расстройства согласно ДСМ (а именно эти пациенты довольно часто нуждаются в длительной терапии).
Кто из терапевтов не был поражен тем, насколько легче поставить диагноз, пользуясь ДСМ-IV, после первого же собеседования, нежели позднее, скажем, после десятого сеанса, когда мы узнаем о личности гораздо больше? Не странно ли это?
Один мой коллега обратился к своим клиническим практикантам, спросив у них: «Если бы вы занимались индивидуальной терапией или изучали ее, какой диагноз согласно ДСМ-IV ваш терапевт мог бы справедливо использовать для того, чтобы описать кого-либо столь же сложного, как вы?»
В психотерапии мы просто обязаны нащупать узкую тропинку некоторой, хотя и не абсолютной, беспристрастности.
Если же мы будем воспринимать диагностическую систему ДСМ слишком серьезно, если мы действительно уверуем в то, что реально вырезаем по наметкам природы, это может стать угрозой для человеческой, спонтанной, импровизационной и несколько неопределенной сущности терапевтического начинания.
Вы должны помнить о том, что клиницисты, участвующие в создании прежних, ныне уже отброшенных диагностических систем, были весьма квалифицированными, высокомерными и в такой же степени уверенными в себе, как и нынешние члены комитетов ДСМ.
Несомненно, наступит такое время, когда ДСМ-IV, представляющееся мне чем-то подобным меню китайского ресторана, покажется нелепицей профессиональным психиатрам".
Автор цитируемого текста - психотерапевт Ирвин Ялом
Взято отсюда
Пост в Лигу психотерапии.
Международная система медицины, основанной на доказательствах (evidence-based medicine), она же "доказательная медицина", начала развиваться в 1990-е годы. Про то, как она устроена, не так давно был на Пикабу пост.
Смысл новых правил игры в доказательную медицину и доказательную психологию состоит в том, что любой научный факт теперь ранжируется в зависимости от того, с каком контексте он получен. Ранг определяется буквами A, B, C, D.
На уровне D располагается выработка группой экспертов консенсуса по определённой проблеме.
На уровне C располагаются нерандомизированные исследования (всех сравнили со всеми, сплошные выборки). Большинство курсовых на факультетах психологии в университетах и у нас в России, и на Западе, делаются именно на этом уровне.
На уровне B находятся небольшие контролируемые рандомизированные (где респонденты, по которым будет обсчитываться итоговая статистика, выбраны случайным образом из сплошных массивов, которые сравнивали между собой) исследования.
На уровне А находятся контролируемые большие двойные слепые плацебо- исследования, а также данные, полученные при мета-анализе нескольких рандомизированныхисследований. При испытании новых лекарств современная медицина полагается именно на "двойные слепые" рандомизированные испытания.
Доказательная психологическая практика
От психолога требуется опираться на лучшее научное доказательное знание, то есть на рандомизированные контролируемые исследования уровней А и В.
В США для того, чтобы клиент мог принять решение самостоятельно и дать добровольное информированное согласие, правительство создало ресурс, где описаны научно доказанные методы психологической практики. Он так и называется, Национальный реестр.
Допустим, вы придумали технику, которая работает и помогает людям как психологическая практика и хотите, чтобы материалы о ней разместили на правительственном сайте так, чтобы каждый гражданин страны имел достоверную и официальную информацию о ней. Вам нужно выполнить ряд требований. Во-первых, нужно провести хотя бы одно научное исследование, где будут статистически значимые результаты с вероятностью р меньше или равной .05. Это может быть экспериментальное или квази-экспериментальное исследование. Для экспериментального вы выбираете клиентов, которые уравнены по социо-демографическим характеристикам, делите их на две группы, тестируете их ДО исследования, потом с одной проводите свою технику, а с другой не проводите, они служат как контрольня группа, и тестируете их ПОСЛЕ исследования. Затем наугад берёте несколько случайных людей из первой группы и из второй, считаете средние и сравниваете, есть ли разница. Взятые наугад люди это и есть рандомальный, случайный выбор, а всё исследование так и называется – рандомизированное, уровень В в медицине.
Для квази-экспериментального вы делаете то же самое, только сравниваете всех подряд из первой группы со всеми подряд из второй группы. Это нерандомизированное исследование, уровень С в медицине.
Результаты своего хотя бы одного исследования со значимыми результатами вы должны опубликовать хотя бы в одном профессиональном журнале, где статьи перед публикацией читают независимые эксперты, обычно это два человека, кто видят анонимизированный текст и принимают к публикации или отклоняют, или в монографии в специализированном издательстве.
Вы должны подготовить материалы для практической работы так, чтобы их можно было выдать людям, кто захочет практиковать вашу технику, по первому требованию. Когда эти требования выполнены, вы подаёте свою технику на рассмотрение комиссии, она присваивает ей балл за Качество исследования и Готовность к распространению, а затем включает её в Национальный реестр, который доступен всем желающим онлайн:
National Registry Evidence-Based Programs and Practices
В 2015 году в реестре было 325 практик, в 2016 было 340 таких психологических практик, на сегодня их 455, они перечислены вот здесь http://nrepp.samhsa.gov/AllPrograms.aspx
Искать можно по любым ключевым словам, Find an Intervention переводится как "найти вмешательство". Разрабатывают их обычно университетские коллективы в сотрудничестве с учреждениями, на базе которых проводятся научные исследования. Давайте посмотрим, как выглядит описание психологической техники или психотерапевтического вмешательства, на примере одной практики.
Вот программа работы с детьми 2-7 лет, родители которых жалуются на плохое поведение отпрысков. Она называется Parent-Child Interaction Therapy и делает акцент на детско-родительских отношениях и улучшает их качество.
Родителей учат заботиться о детях или делать это лучше, чем они делали это прежде, поощрять просоциальное поведение и не поощрять антисоциальное. В программе два направления работы, с ребёнком и с родителями соответственно.
Родители должны посетить одну установочную лекцию, где им расскажут об изучаемых навыках, и потом придти с ребёнком на несколько коучинговых сессий, где научатся применять эти навыки. Коучи учат родителей играть с детьми и общаться с ними посредством прямых, соответственных возрасту, указаний. На этапе отработки взаимодействия между родителем и ребёнком специалист наблюдает за происходящим из-за зеркала Геззела и может подсказать какие-то слова или действия родителю, того на ухе есть соответствующая гарнитура. Обычно требуется 15 часовых сессий в поликлинике.
Программа была разработана для семей, где есть поведенческие нарушения у детей и к детям применялось физическое насилие, либо мать ребёнка во время беременности принимала наркотики, либо у детей есть задержки психического развития.
Обратите внимание, что зачитанное с сайта описание вмешательства дано языком, понятным человеку с любым уровнем образования, - ведь законодательная норма двадцать первого века про информированное согласие на вмешательство подразумевает, что человек полностью понимает, на что подписывается.
Дальше сайт рассказывает про Качество исследования и называет рейтинговую оценку, она составляет 3,2 по 4-балльной шкале.
Здесь же перечислены публикации в научных рецензируемых экспертами журналах, посвящённые доказательству эффективности вмешательства. Они публиковали результаты в Child and Family Behavior Therapy, Journal of Child Clinical Psychology, в Journal of Consulting and Clinical Psychology и в Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology.
Как вы помните, я перечисляла минимальные требования, что должна быть хотя бы одна публикация, в данном случае речь идёт о пяти оригинальных статьях, посвящённых программе, в разных журналах.
Здесь же размещено пояснение, как исследователи собирали данные. Все сессии были трёхчастно структурированы: деятельность с ребёнком, деятельность с родителем, подведение итогов.
Взаимодействие ребёнка и родителя снимали на видео и потом кодировали поведение по заранее известной схеме: речевое поведение (команды, фразы, критика), голосовое поведение (смех, крики, пронзительный крик) и физическое поведение (будь то позитивные, например объятия, прикосновения, или негативные, например шлепки). Подсчитывалась частота по каждой категории и в итоговой части обсуждалось, как каждое действие родителя и ребёнка воспринималось партнёром по взаимодействию.
Помимо видеофиксации, применялся ещё опросник для родителей, где они рассказывали, как поддерживают дисциплину, он выявлял сверх-авторитарные стили родительства.
Дальше материалы Национального реестра рассказывают общественности о результатах научных исследований по программе. Для данной практики таких результатов было четыре, первый в сфере детско-родительских отношений (число негативных стилей родительства значимо уменьшалось после прохождения программы).
Вывод: статистика подтвердила, что эта программа работает.
Второй результат относился к нарушениям поведения у детей. Спустя четыре месяца после прохождения программы родители сообщали о том, что поведение детей улучшилось и эффект сохраняется.
Третий результат относился к стрессу у родителей и их локусу контроля. Родители заполняли опросники на уровень стресса и локус контроля до исследования, после и спустя четыре месяца. Уровень стресса значимо снижался, а локус контроля смещался в сторону внутреннего, то есть родители принимали на себя ответственность.
Четвёртый результат касался рецидива физического посягательства. Эти данные давали исследователям социальные службы.
Выборку родителей, которая получала только Parent-Child Interaction Therapy, сравнили с выборкой родителей, которые получали эту терапию плюс индивидуальную работу со специалистом, и с выборкой родителей, которые получали только беседы социального работника в формате группового занятия.
Спустя 850 дней после проведения вмешательства, в группе родителей, кто прошёл программу, 19% родителей совершили рецидив физического посягательства и побили ребёнка.
В группе тех, кто получал эту терапию плюс индивидуальную психотерапию, рецидив совершили 36%.
В группе тех, кто ходил на группы не к психологам, а к соцработникам, рецидив совершили 49%. Различия статистически значимы.
Я оставлю вам эти данные "на подумать" о людях.
Другие разделы.
Стоимость материалов для программы её разработчики оценили в тысячу долларов, а работу в программе, то есть неделю тренинга и потом 100 часов консультаций в течение 12 месяцев, в 3-4 тысячи долларов на одного человека.
Американскую разработку продублировали в Австралии, раздел "Репликация" сообщает о результатах сравнительного исследования.
Контактная информация сообщает об именах и должностях разработчиков программы.
Практический смысл размещения своей исследовательской работы на государственном сайте, - деньги. Страховая медицинская компания и социальные службы будут финансировать только программы, сертифицированные правительственной комиссией.
Собственно, подробно процитированное выше научное обоснование позволяет просить у государства бюджет в 3-4 тысячи долларов на одного пациента. Как мы помним, войти в программу и стать её участником может семья, где детям применялось физическое насилие, либо мать ребёнка во время беременности принимала наркотики, либо у детей есть задержки психического развития.
В статье Отберёт ли робот вашу работу? я приводила данные о том, сколько людей работают в этой реабилитационной индустрии. Занято в этой сфере на 2016 год 360,650 человек.
Новый формат резко изменил "инвестиционный климат" в профессии. От теоретического осмысления наука психология качнулась в статистические замеры всего и вся.
Эрик Швитцгебель, профессор философии Калифорнийского университета, называет эту тенденцию "Забавно! Полезно! Твитабельно!"
Ирония профессора будет понятнее, если знать, что Твиттер – это социальная сеть, где обмениваются сообщениями длиной в 140 букв, "твит" по-английски что "чик-чирик", чириканье. В эпоху социальных сетей о науке чирикают между собой, а не читают полный текст статьи, утверждает профессор. Каждый год на тему психологии публикуется около 50,000 научных работ.
Подавляющее большинство из них - нерандомизированные, то есть по медицинским меркам уровня С.
(продолжение в следующем посте)
Пост в Лигу психотерапии.
Федор Ефимович Василюк (1953-2017) - создатель первого в России Центра психологического консультирования и психотерапии, первого в России журнала по психотерапии – Московского психотерапевтического журнала, первого в России факультета психологического консультирования.
17 сентября 2017 года психология понесла невосполнимую потерю – ушел из жизни Федор Ефимович Василюк, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой индивидуальной и групповой психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета, основатель факультета психологического консультирования и бессменный его декан на протяжении 15 лет, человек, с именем которого связано становление психотерапии в нашей стране.
Родился 28 сентября 1953 года. В 1981—1987 годах работал клиническим психологом в психиатрической больнице (с. Строгановка в Крыму).
В 1986—1988 годах участвовал в создании одного из первых в стране специализированных социально-психологических центров, а с 1988 года — в создании Института человека АН СССР.
В 1990 году организовал Центр психологии и психотерапии.
В 1991 году создал «Московский психотерапевтический журнал», в 1992 г. стал его главным редактором.
В 1993 году стал сотрудником Психологического института РАО, с 1994 года — заведующим лабораторией научных основ психотерапии и психологического консультирования.
В 1997 году основал в Московском городском психолого-педагогическом университете и возглавил первый в России факультет психологического консультирования, которым руководил до 2012 года.
В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему «Понимающая психотерапия: опыт построения психотехнической системы».
Скончался 17 сентября 2017 года в Москве после тяжёлой и длительной болезни.
Наиболее цитируемые работы учёного:
Василюк, Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. М.: Издательство Московского университета, 1984.
Василюк, Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М.: Смысл, МГППУ, 2003.
Василюк, Ф. Е. Переживание и молитва. Опыт общепсихологического исследования. М.: Смысл, 2005.
Пост в Лигу психотерапии.
Начало Аарон Бек и когнитивная терапия депрессии
Продолжение Выбор Софи и психоаналитическая Америка
В России деятельность специалистов, практикующих когнитивно-поведенческую терапию, давно упорядочена в рамках профессиональной ассоциации.
Как рассказывает сайт http://russian-cbt.ru/criteria/ стандарты аккредитации Ассоциации были разработаны в соответствии со стандартами аккредитации терапевтов, супервизоров и тренеров Европейской ассоциации поведенческой и когнитивной терапии (EABCT).
В обозначениях Cognitive Behavioral Therapy, или СВТ (читается си-би-ти) переводится как когнитивно-поведенческая терапия или когнитивно-бихевиоральная терапия. Это одно и то же, только сокращения будут разными, КПТ или КБТ, соответственно.
Чтобы вступить в ассоциацию, требуется 450 часов изучения теории КБТ и отработки практических навыков, из них как минимум 200 часов очного обучения под руководством признанного/аккредитованного преподавателя из которых по меньшей мере половину должна составлять отработка практических навыков (в присутствии преподавателя и с его супервизией).
200 часов клинической практики с успешно проведенной терапией по меньшей мере 8 клиентов не меньше чем с 3 разными типами проблем и как минимум 5 сессиями, проведёнными с каждым клиентом.
Увидели ключевые слова "5 сессий"? Сравните это с идеей о трёх-пяти годах психоанализа, то есть 150-250 сессиях на пациента и вы поймёте, почему капиталистическая страховая медицина полюбила CBT пламенной любовью.
Региональные отделение у Ассоциации есть во всех регионах России
http://associationcbt.ru/departments/
На сайте действует поиск специалистов в своём городе
http://associationcbt.ru/specialists/
27 и 28 мая 2017 года с семинаром в Россию приезжал американец, профессор Артур Фримен, он согласился вести базовый курс онлайн
Во время своего участия в III Международном Съезде АКПП профессор Артур Фримен провел не только двухдневный семинар, но также принял участие в презентации свой книги, написанной вместе с Аароном Беком - "Когнитивная терапия расстройств личности" на Международном книжном салоне. Если есть желание, вот видео этого события, на русском:https://youtu.be/SoT_cXBuRvg
В завершение, в Лиге психотерапии были хорошие посты о КПТ:
https://zalipaka.icu/story/osnovnyie_printsipyi_ratsionalnoyemo...
https://zalipaka.icu/story/depressiya_i_osoznannost_myagkiy_pod...
https://zalipaka.icu/story/avtomyisli_poymat_i_obezvredit_52661...
https://zalipaka.icu/story/kognitivnopovedencheskie_uprazhneniy...
https://zalipaka.icu/story/trevoga_i_panicheskie_ataki_obshchee...
https://zalipaka.icu/story/khoroshee_otnoshenie_k_sebe_kak_eshc...
https://zalipaka.icu/story/kognitivnopovedencheskaya_psikhotera...
У нас есть даже посты про новейшую Мета-когнитивную терапию от https://zalipaka.icu/profile/av1k3
Мета-Когнитивная Терапия (МКТ) — одна из поздних форм когнитивной терапии, основным автором которой является доктор Адриан Уэллс. МКТ разделяет положение, озвученное 2000 лет назад философом Эпиктетом и лёгшее в основу когнитивной терапии: «Не сами события и вещи раздражают нас, а наши взгляды и суждения о них».
и Acceptance & Commitment Therapy
https://zalipaka.icu/story/act_acceptance_amp_commitment_therap...
Будет что почитать, пока я перевожу вам с английского 56-минутный скандальный доклад, обещанный в предыдущем посте :)
Пост в Лигу психотерапии.
Начало в посте Аарон Бек и когнитивная терапия депрессии.
Почему "бросил перчатку психоанализу"? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо понимать атмосферу 1950-х - 1960-х годов в США, где психоанализ был не просто модой. Он был атрибутом престижной жизни богатых.
Чтобы проиллюстрировать данный тезис, я процитирую один из наиболее известных романов американского писателя Уильяма Стайрона "Выбор Софи", описывающий историю женщины, сумевшей выжить в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны. Роман был опубликован в 1979 году, однако события романа происходят одновременно с Нюрнбергским процессом, в 1940-х.
Роман был экранизирован в США в 1982 году режиссёром Аланом Пакулой. Мерил Стрип за роль Софи была удостоена премии Оскара.
В конце романа главный герой узнает о самой страшной тайне польки Софи, оказавшейся в концлагере за купленный окорок. Помимо неё нацисты арестовали её сына Яна и дочь Еву. И когда их доставляют в Освенцим, в процессе «селекции» Софи предлагают сделать страшный выбор — решить, кого из детей она оставит, а кого сразу отправят в газовую камеру. Софи умоляет пощадить обоих детей, однако её заставляют сделать выбор — в противном случае оба ребенка будут немедленно уничтожены. Она просит сохранить жизнь сыну - эмигрирует в Америку и живёт полупомешанной оставшуюся жизнь.
Цитаты из книги, относящиеся к психоанализу и увлечением психоанализом среди детей олигархов, еврейской национальности, помогают понять контекст, в котором доктор Бек осмелился сказать, что психоанализ не помогает лечить депрессию:
"Беседа перескочила на другого лауреата Бруклинского колледжа – Уолта Уитмена, и тут мне уже легко было не слишком вслушиваться в то, что говорила Лесли. В колледже да и в других местах я не раз и вполне серьезно разыгрывал эту маленькую шараду на культурные темы и знал, что это лишь прелюдия, предварительное прощупывание друг друга, когда важнее авторитетный тон, каким произносятся слова, чем смысл того, что говорится. Короче, этот ритуальный брачный танец позволяет отвлекаться мыслью – не только, как в данном случае, на пышные телеса Лесли – и дает возможность попытаться проникнуть в подтекст. Поскольку я не очень вникал в слова, то сначала подумал, что ослышался, что это какая-то новая словесная игра, и лишь потом понял, что это говорится не в шутку, что в разговоре назойливо присутствует некая мрачная нота – ведь почти каждая фраза начинается со ссылки: «Как сказал мой аналитик…»
То и дело прерывавшийся, зацикленный на одной теме, наш разговор озадачивал меня и в то же время пленял, а кроме того, он был предельно откровенен, и это было настолько для меня внове, что я почувствовал, как у меня горят уши – такого со мной не бывало с восьми лет. В общем и целом эта беседа пополняла мой жизненный опыт, она произвела на меня столь сильное впечатление, что в тот вечер, у себя в комнате, я по памяти дословно записал ее, – эти записи, выцветшие и пожелтевшие, я извлек сейчас из прошлого вместе с письмами отца. Хотя я дал себе слово не перегружать читателя чрезмерным обилием заметок, которые я в то лето в великом множестве набросал (это утомляет и отнимает время, а кроме того, указывает на спад в работе воображения), в данном случае я делаю исключение, вставляя в текст свою маленькую запись без всяких изменений в качестве достоверного образчика разговора, какой вели люди в 1947 году – году зарождения психоанализа в послевоенной Америке.
Девушка по имени Сандра: «Мой аналитик сказал, что моя способность передавать телу приказы из антагонистической стадии перешла в стадию благожелательную. Он сказал, это обычно означает, что аналитику придется преодолевать меньше барьеров и репрессий».
Долгое молчание. Слепящее солнце, чайки на фоне лазурного неба. На горизонте – перышко дыма. Чудесный день, ждущий своего гимна, вроде оды «К радости» Шиллера. Что же, черт подери, гнетет эту молодежь? В жизни не видал такого мрака, такого отчаяния, такой оцепенело-тупой серьезности. Наконец кто-то нарушает долгую тишину.»
Парень по имени Ирв: «Не пережимай по части благожелательности, Сандра. А то доктор Бронфман живо засадит в тебя свою пушку».
Никто не смеется.
Сандра: «Это не смешно, Ирвинг. Собственно, то, что ты сейчас сказал, – возмутительно. В способности человека передавать телу приказы нет ничего смешного.»
Снова надолго воцаряется тишина. Я совершенно оглушен. Ни разу в жизни не слыхал, чтобы в смешанном обществе употребляли такие слова. Как никогда не слышал и о способности передавать телу приказы. Я чувствую, как съеживается все мое пресвитерианское нутро. Эти люди чувствуют себя действительно совершенно раскрепощенными. Но если так, то почему же здесь царит такой мрак?
«А мой аналитик говорит, что способность передавать телу приказы – дело серьезное, независимо от того, делаешь ли ты это с чувством антагонизма или благожелательности. Она говорит, это свидетельство того, что ты не преодолел в себе эдипов комплекс.»
Всё это произносит девчонка по имени Шэрли, не такая первоклассная, как Лесли, но с большими титьками. Как отмечал Т. Вольф, у еврейских девчонок потрясающе развиты груди. Но у всех девчонок, кроме Лесли, такой вид, будто они пришли на похороны. Вижу: Софи на самом краю песчаной площадки прислушивается к разговору. Чистое счастье, которым она вся светилась, катаясь на дурацких аттракционах, исчезло. Красивое лицо ее насуплено, помрачнело – она молчит. До чего же она хороша, даже в плохом настроении. Время от времени она бросает взгляд на Натана – словно хочет удостовериться, что он тут, – и снова сдвигает брови, а вокруг продолжается болтовня.
Говорят, что попало:
«Мой аналитик сказал, мне потому так трудно кончить, что у меня прегенитальная фиксация.» (Сандра).
«Девять месяцев я занимался психоанализом и только тогда понял, что хочу спать не с матерью, а с тетей Сэйди.» (Берт) (Легкий смешок.)
«До того, как я стала заниматься психоанализом, я была абсолютно фригидна, можете представить себе такое? А сейчас только и думаю, с кем бы переспать. Вильгельм Райх превратил меня в нимфоманку, я хочу сказать – у меня один секс в мозгах!»
Эти последние слова, которые произнесла Лесли, переворачиваясь на живот, так повлияли на мое либидо, что меня на всю жизнь перестали занимать слова «половое бессилие». Мною овладело не просто желание – меня поистине подхватил ураган похоти. Неужели Лесли не понимала, что сделала со мной своими речами, как эти ее бесценные откровенности пронзили острыми копьями бастион моих христианских принципов, требовавших воздержания и самоограничения?
По рукам ходили банки с пивом из бара на пляже, и это, конечно, поддерживало по мне эйфорию; даже когда Софи и Натан, простившись со мною, ушли – вид у Софи был изнуренный и несчастный, и она сказала, что плохо себя чувствует, – я не спустился на землю с заоблачных высот, куда забрался в своем восторге. (Я припоминаю, однако, что после ухода Софи и Натана в группе, сидевшей на песке, воцарилось на миг неловкое молчание – молчание, нарушенное чьим-то вопросом: «А вы видели этот номер у нее на руке, эту татуировку?»)
Через полчаса болтовня про психоаналитиков отчаянно мне надоела, и, осмелев от выпитого и от всего этого загула, я предложил Лесли перейти куда-нибудь в другое место, где мы могли бы посидеть и поговорить наедине. Она согласилась, тем более что набежали облачка, и мы приютились в кафе на краю пляжа, где Лесли пила лимонад, а я заливал мой все нараставший пыл «Будвейзером», опустошая банку за банкой.
<...>
Мне немного стыдно, что в вышеприведенном куске почти нет и следа иронии (а ведь я был способен на «этакий оттеночек»!) – это лишь указывает на то, как действительно повлияла на меня встреча с Лесли или как я поглупел от захватившей меня страсти… или же просто – как работал мой легко поддающийся внушению мозг в возрасте двадцати двух лет.
Так или иначе, когда мы с Лесли вернулись на пляж, песок вокруг будки спасателя был залит предвечерним светом, в котором все еще дрожали волны зноя; унылые объекты психоанализа отбыли, оставив после себя полузанссенный песком экземпляр журнала «Партизан ревью», пустые тюбики из-под мази для носа и бутылки из-под кока-колы. Мы посидели там еще с часок, согретые и словно зачарованные нашим сродством, связывая обрывки незавершенного разговора, оба прекрасно понимая, что в тот день сделали первый шаг в наших намерениях пуститься в странствие по неосвоенной и не нанесенной на карту местности. Мы лежали рядышком на животе. Я нежно чертил кончиками пальцев овалы на пульсирующей шее Лесли – она вдруг протянула руку и погладила меня.
– Мой аналитик сказал, – заметила она, – что человечество будет вечным себе врагом, пока не поймет, что каждому человеческому существу enfin необходимо фантастически потрахаться.
И я услышал словно издалека собственный голос, прерывисто, но искренне произнесший:
– Твой аналитик, должно быть, очень мудрый человек.
Она долго молчала, затем повернулась и, глядя мне прямо в лицо, наконец произнесла, не скрывая желания, лениво и откровенно, то, от чего у меня остановилось сердце, а разум и чувства пришли в полное смятение:
– Держу пари, ты мог бы фантастически потрахать девчонку.
После чего мы условились об очередной встрече в четверг вечером.
<...>
Несмотря на все трудности, с которыми сталкивалась Софи, ее волновала и впечатляла та неистовая сила, с какою проза Фолкнера воздействовала на ее сознание.
– Понимаешь, он пишет как одержимый ! – сказала она мне и добавила: – Вот уж очень ясно, что он никогда не занимался психоанализом.
При этом она с отвращением наморщила носик, явно намекая на загоравших с нами молодых людей, которые так возмутили ее в прошлое воскресенье. Я тогда этого не понял, но как раз та фрейдстская болтовня, которая так заинтересовала и, уж во всяком случае, позабавила меня, показалась Софи омерзительной и побудила ее бежать вместе с Натаном с пляжа.
– Какие странные, жуткие люди – все так ковыряют эти свои маленькие… болячки, – заметила она как-то мне, когда Натана не было с нами. – Терпеть не могу такой тип, – и тут она употребила выражение, показавшееся мне настоящей жемчужиной, – пустопорожнего горя!
<...>
Когда же забрезжил рассвет и глубокая усталость разлилась по моим костям и мускулам – включая доблестный мускул любви, который после упорного бдения наконец обмяк и сник, – Лесли поведала мне мрачную одиссею своего психоанализа. И, конечно, своей семьи. Своей жуткой семейки. Семейки, которая, по словам Лесли, несмотря на внешне цивилизованный и спокойный облик, является настоящим собранием восковых чудовищ.
Безжалостный и честолюбивый отец, который молится на свою пластмассу и с самого детства едва ли сказал дочери двадцать слов. Гадкая младшая сестра и старший брат-идиот. А главное – людоедка мать, которая хоть и окончила Барнард, но ведет себя по отношению к Лесли как мстительная сука, с тех пор как застала ее, трехгодовалую крошку, за самообследованием, после чего руки Лесли для профилактики на долгие месяцы заковали в шину. Все это Лесли поспешно изливает мне, точно я вдруг стал одним из череды непрестанно сменяемых лекарей, которые на протяжении более четырех лет занимались ее горестями и бедами.
Солнце уже окончательно взошло. Лесли пьет кофе, я пью «Будвейзер», а на двухтысячедолларовой радиоле «Магнавокс» играет Томми Дорси. Водопад слов, источаемых Лесли, достигает моего слуха будто сквозь толстый слой ваты, и я пытаюсь – без особого успеха – связать воедино ее обрывистую исповедь, пересыпаемую самыми разнородными терминами, вроде рейхианство и юнгианство, адлерианство, ученик Карен Хорни, сублимация, Gestalt, фиксации, гигиена тела и многое другое, что я знал, но ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил об этом в таких приподнятых выражениях, какими у нас, на Юге, могли бы изъясняться только Томас Джефферсон, Дядюшка Ремус и святая Троица.
Я настолько устал, что с трудом сознаю, куда клонит Лесли, когда она заводит речь о своем нынешнем психоаналитике, уже четвертом враче, «рейхианце», некоем докторе Пулвермахере, а затем упоминает о своем «уровне». Я усиленно моргаю, давая понять, что сейчас засну. А она все говорит и говорит.
<...>
Я повернулся и посмотрел на нее (Софи). В ее глазах сверкала ярость, голос звучал пронзительно, и мне захотелось сказать ей, чтобы она говорила потише, но тут я сообразил, что слышу ее только я.
– Я в самом деле терпеть не могла его друзей. А вот брата его я очень любила. Ларри. Я буду скучать по Ларри, и еще я очень любила Морти Хэйбера. Но все другие его друзья… Эти евреи с их психоанализом, вечно они ковыряют свои маленькие болячки, волнуются про свой маленький блестящий умишко, и про своих аналитиков, и про все. Ты же слышал их, Язвинка. Ты знаешь, что я имею в виду. Ты еще когда-нибудь слышал такие глупости? «Мой аналитик то, мой аналитик это…» Такая мерзость, можно подумать, они от чего-то страдали, эти уютно устроившиеся американские евреи и их доктором таким-то, которому они платят по столько много долларов за час, чтобы он исследовал их маленькие жалкие душонки! Брр! – Она вздрогнула всем телом и отвернулась.
Конец цитаты.
Уильям Стайрон (1925-2006) William Styron лауреат Пулитцеровской премии 1968 года.
Его книга "Выбор Софи" полностью http://e-libra.ru/read/163889-vybor-sofi.html
Аарон Бек пишет в книге "Когнитивная терапия депрессии":
"Мне пока и самому не до конца ясно, откуда берут своё начало мои формулировки, касающиеся когнитивной терапии депрессии. Оглядываясь назад, я понимаю, что первые догадки сквозили уже в том начинании, которое я предпринял в 1956 году с целью обоснования некоторых психоаналитических концептов.
Я верил в истинность психоаналитических формулировок, однако испытывал определённое "сопротивление", вероятно, естественное для академического психолога и психиатра, придающего столь большое значение эмпирическим данным.
Хотя первые результаты моих эмпирических исследований как будто бы подтверждали существование психодинамических факторов депрессии, а именно ретрофлективной враждебности, выражением которой является "потребность в страдании", последующие эксперименты принесли целый ряд неожиданных открытий, противоречивших данной гипотезе, что подтолкнуло меня к более критичной оценке психоаналитической теории депрессии, а затем и всей структуры психоанализа.
В конечном итоге я пришёл к заключению: депрессивные пациенты вовсе не испытывают "потребности в страдании". Экспериментальные данные свидетельствовали о том, что депрессивному пациенту свойственно избегать поведения, способного вызывать отвержение или неодобрение со стороны окружающих; он, напротив, стремится быть принятым людьми и заслужить их одобрение. Это расхождение между лабораторными данными и клинической теорией и сподвигло меня к переоценке своих убеждений.
Примерно в то же время я с огорчением для себя начал осознавать, что надежды, возлагаемые мною на психоанализ в начале 1950-х годов, оказались напрасными: многолетний курс психоанализа, через который прошли многие мои аспиранты и коллеги, не вызывал сколько-нибудь ощутимых позитивных сдвигов в их поведении и чувствах! Более того того, работая с депрессивными пациентами, я заметил, что терапевтические интервенции, основанные на гипотезе "ретрофлективной враждебности" и "потребности в страдании" зачастую не приносят пациенту ничего, кроме вреда.
Вспомнив своё впечатление о "мазохистских" сновидениях депрессивных пациентов, которое, собственно, и послужило отправной точкой моих исследований, я стал искать альтернативные объяснения тому факту, что депрессивный сновидец постоянно видит себя во сне неудачником - он либо теряет какую-то ценную вещь, либо не может достигнуть какой-то важной цели, либо предстаёт ущербным, безобразным, отталкивающим. Прислушавшись к тому, как пациенты описывают себя и свой опыт, я заметил, что они систематически перетолковывают факты в худшую сторону. Эти истолкования, сходные с образным рядом их сновидений, навели меня на мысль, что депрессивному пациенту присуще искажённое восприятие реальности.
Дальнейшие систематические исследования, включавшие разработку и апробацию новых инструментов, подтвердили эту мою гипотезу. Мы обнаружили, что депрессия характеризуется глобально пессимистическим отношением человека к собственной персоне, внешнему миру и своему будущему. По мере аккумулирования данных, подтверждавших ведущую роль когнитивных искажений в развитии депрессии, я разрабатывал специальные техники, основанные на применении логики, которые позволяют скорректировать когнитивные искажения пациента и в конечном счёте ведут к ослаблению депресивных симптомов".
Цитата по изданию: Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. Питер, 2003. 304 с. - процитированы стр. 8-9.
Остаётся лишь добавить, что Аарон Бек 1921 года рождения (сам еврей по национальности) усомнился в психоанализе в возрасте тридцати с небольшим лет, а в открытую выступил против могущественного психоаналитического лобби, когда ему было сорок.
В 1970-е и 1980-е годы его идеи имели статус "спорных". Диагностическое и статистическое руководство III пересмотра ещё определяло депрессию психоаналитически.
В четвёртой редакции руководства, - она действовала в 1994-2000 годах, - и в пересмотренном Text Revised четвёртом DSM-IV-TR руководстве, - 2000-2013, а также в DSM-5, которое действует в настоящее время, принята точка зрения Бека: депрессия это когнитивные + соматические симптомы.
Триумф когнитивной терапии связан с революцией в медицине, относящейся к доказательным методам: evidence based practice. Страховые компании хотели знать, какое лечение наиболее эффективно. Когнитивная терапия депрессии сумела предложить краткосрочный, понятный, хорошо структурированный протокол лечения с хорошим результатом, - и с конца 1980-х годов заняла лидирующее положение на рынке.
Тридцать лет спустя психоанализ, - модифицированный, в обличье психодинамической психотерапии, сделал ответный ход. Психодинамические терапии проверили методами доказательной медицины и сравнили с когнитивными терапиями. Скандальный доклад на эту тему был прочитан в 2014 году, и я обязательно вам о нём расскажу :)
Сделал его американец, Джонатан Шедлер, http://jonathanshedler.com/
His article The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy won worldwide acclaim for firmly establishing psychodynamic therapy as an evidence-based treatment.
Вот его Фейсбук, https://www.facebook.com/jonathan.shedler
Вот ещё одна статья, её автор Allen Frances, профессор в университете Дюка, которую имеет смысл переводить, сдавая тысячи знаков по английскому языку в университете: она про болевые точки в исследовании психотерапии, почему победила биомедицинская модель и чем психотерапия заплатила за то, что психологии в ней стало меньше, а медицины - больше.
http://www.huffingtonpost.com/allen-frances/saving-psychothe...
Аарон Тёмкин Бек известен в первую очередь Шкалой депрессии Бека, разработанной в 1961 году.
От диагностики депрессии Бек перешёл к её психотерапии, и в своей монографии «Когнитивная терапия и эмоциональные расстройства» (1976) выдвинул принципиально новый подход к изучению и лечению эмоциональных нарушений: «Ключ к пониманию и решению психологических проблем находится в сознании пациента».
Книга была переведена на русский в 2003 году.
Когнитивная модель депрессии, разработанная Беком, подчёркивает, что депрессивный человек систематически неверно оценивает происходящее и прошлый опыт, постепенно составляя представление о себе как о неудачнике, представление о мире как о фрустрирующем и представление о будущем как об унылом и мрачном.
Эти три негативных представления известны как когнитивная триада и включают негативные мнения о себе (типа «Я неадекватный, нежеланный, ничего не стоящий»), негативное мнение о мире (типа «Мир слишком многого требует от меня, и жизнь — это сплошное поражение») и негативные мнения о будущем (типа «Жизнь всегда будет полна страданий и лишений, которые я испытываю сейчас»).
Как легко заметить, здесь нет ни слова о бессознательном, то есть Аарон Бек бросил перчатку могущественному психоаналитическому лобби - и выиграл.
Aaron Temkin Beck родился 18 июля 1921 года и в 2016 году отметил своё 95-летие.
Портрет крупным планом:
История семьи:
Родился в семье еврейских иммигрантов из Российской империи. Его отец Гарри Бек (Гершл Бык, 1884—1968) был издателем и уроженцем Проскурова (ныне — Хмельницкий, областной центр на западе Украины), иммигрировавшим в США в 1906 году. Мать, Элизабет Темкин (1889—1963), иммигрировала в США из Любеча и была общественным деятелем еврейской общины Провиденса (Род-Айленд). Родители поженились в 1909 году.
В наши дни:
На фото: Роберт Лихи, руководитель Американского Института когнитивно-поведенческой терапии в Нью-Йорке, Дмитрий Ковпак, кандидат медицинских наук, председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (АКПП), доцент кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И. И. Мечникова, научный руководитель секции психологической коррекции и психотерапии Российского Психологического Общества (СПб отделения), сопредседатель секции когнитивно-поведенческой психотерапии Российской Психотерапевтической Ассоциации. В нижнем ряду Артур Фримен (друг и соавтор Аарона Бека) и Рэймонд Диджузепе (ведущий специалист Института Эллиса в Нью-Йорке, Past President (2006) Association for Behavioral and Cognitive Therapies).
Найдите на снимке не-американскую улыбку :)
В 1994 году профессор Аарон Бек и его дочь профессор Джудит Бек создали Институт когнитивной психотерапии и исследований (англ. Beck Institute for Cognitive Therapy and Research) в окрестностях Филадельфии, там работают 14 человек. Основная миссия этого института — разработка и проведение тренинговых программ по когнитивной психотерапии, предназначенных для обучения различных специалистов, работающих в сфере соматического и психического здоровья.
Сайт института https://www.beckinstitute.org/
Dr. Aaron T. Beck developed Cognitive Behavior Therapy (CBT) at the University of Pennsylvania in the 1960s. In 1994, Dr. Beck and his daughter, Dr. Judith Beck, established Beck Institute as a nonprofit 501(c)(3). Their goal was to create a new clinical setting that would provide both state-of-the-art psychotherapy and comprehensive training opportunities for professionals worldwide.
Юдит Бек:https://youtu.be/jImJX81jZ6k
Психоаналитическая империя нанесла когнитивной терапии ответный удар, но об этом - в следующем посте :)
Пост в Лигу психотерапии.
Однажды я запретила себе выражение "мне не хватает времени" и решила жить по другим правилам:
1. Время это друг.
2. Каждому делу своё время.
3. "Озимые" и "яровые" дела.
Взгляд на дела как на зерновые культуры, которые поспевают :) и на момент, когда надо успеть пожать плоды своих дел :)) принёс немедленный и конкретный результат. Если вам интересны подробности, я с удовольствием поясню про интроекты и другие психологические механизмы.
А пока покажу скриншот - да-да, мы за год написали более ста тысяч комментариев в Лиге психотерапии, обсуждая каждый день в среднем пять постов - и напомню про то, о чём не договорили.
Так получается, что посты прошлых недель и даже месяцев активно читают и комментируют. Пикабушники задают вопросы, но в потоке дел у меня нет возможности на них содержательно ответить, а откликаться многозначительными фразами вроде "ваше будущее впереди!" не в моих правилах.
У меня впереди долгие выходные (местные иудейские новогодние праздники), так что время успевать пришло!
и многие другие писали мне комментарии с вопросами.
Если вы хотели спросить что-то про психологию, психотерапию и психодиагностику у человека, который профессионально занимается этим много лет и имеет ачивки Пикабу за онлайн тренинг и за самый комментируемый тестовый пост, welcome в комментарии. Неделю до 24 сентября я могу быть онлайн столько, сколько захочу, а не урывками или набегами.
Каждому делу своё время - и отдаче долгов по темам, про которые мы не договорили, тоже :)
Пост в Лигу психотерапии
#инстапсихолог - психолог, который ведёт аккаунт в Инстаграм.
Инстаграм начинался с эксклюзива и знака принадлежности к яблокофилам. Версия Инсты для Андроида появилась в 2012 году и за сутки была скачана более миллиона раз.
Психологам в Инстаграме нечего показать, кроме своей еды, двух ракурсов стула и группового фото с сертификатами в руках в финале обучающего семинара. Видеоряд утомляет своей монотонностью (очередной воркшоп, кресло в кабинете, а не стулья в тренинговом зале, улица по дороге в мой кабинет) и подталкивает психолога на путь пабликов Вконтакте, тиражирующих изображения, цитаты, милоту и накрутки подписчиков.
Идея перенести карточки Полароида в интернет-среду прожила пять лет. Формат "квадратная картинка и подпись к ней" канул в Лету вместе с претензиями на элитарность. В 2015 появились все форматы фотографий, 15-секундные, а потом и минутные видео, и лимит в 2200 знаков на подпись к фотографии (это страница вордовского текста).
Тут-то психологам карта и пошла!
Психологи разложились на инстаприлавке со своим товаром.
Поиск по хэштэгам "психология", "психотерапия" и "психодиагностика" в Инстаграм сентября 2017 года показывает такую картину:
На русском языке:
Давайте посмотрим на продавцов, что из себя представляют инстапсихологи на базаре.
Прямые трансляции в Инстаграм (лайвы) позволяют гулять вдоль прилавка, приглядываясь к продавцам и перебрасываясь с ними репликами.
Если вы наблюдательный человек, то разнообразие типажей среди инстапсихологов вас приятно удивит. Впрочем, для каждого из них в советской торговле нашёлся бы свой прототип.
Вместо халы на голове - люстра над головой психолога в эфире, вместо горы коробок за спиной - ряды книг на полках, привычные счёты под рукой психологам заменила чашка с питьём. Это всё антураж видеотрансляции, реалии видео-самодеятельности.
Проницательный посетитель смотрит на другое.
Ключевая информация о продавце дана в Инстаграме одной строкой. Это число публикаций в аккаунте (стабильность поставок товара - контента), число подписчиков аккаунта (сколько покупателей заходят к продавцу) и число подписок аккаунта (куда отлучается от прилавка сам продавец).
Любой спикер в прямом эфире Инсты (не важно, психолог это, маркетолог, астролог или инстамама), хочет он того или нет, оказывается участником инстаграм-тренинга "испуганное сценическое движение и сдавленная сценическая речь".
Размахивают руками, стоя за прилавком, и мужчины, и женщины.
Прямой эфир творит чудеса, заставляя пускаться в пляс брови и у мужчин, и у женщин.
Рассказывают при этом интересные вещи, товар (психологические знания, про которые рассказывают) на прилавке добротный. И диалоги с аудиторией, которая вас слушает, тоже могут быть интересными.
Наверняка есть психологи, кто делает лайвы днём на улице или в закрытом пространстве с хорошим освещением, умеренной мимикой и выразительной, к месту, жестикуляцией. Но они не подписаны на аккаунты rabota_psyhologa и rabotapsy.livejournal в Инстаграме и не попали в моё поле зрения и данный обзор :)
- Здравствуйте! Я имярек. Я помогаю людям в решении личностных проблем. Являюсь сертифицированным (подставьте нужное) и (подставьте нужное). Помимо психологических проблем и общечеловеческих вопросов специализируюсь на глубинных темах жизни, таких как: Любовь, Одиночество, Смысл, Сопричастность, Конфликты, Страдание, Кризис, Высшее. Первичная ознакомительная консультация проводится бесплатно. Я буду рад помочь вам. Есть проблема? Найдётся решение!
В директе Инстаграма идёт совсем другая жизнь. Кто-то благодарит за взаимность подписки, кто-то допрашивает, зачем этот бесплатный блог, раз сами денег не берёте как психолог, кто-то предлагает нахаляву осчастливить. Встречаются и варианты коучинг+ваш личный гороскоп, и варианты гештальт-терапевт+ведение свадебных торжеств.
Больше всего в Инстаграме удивили маникюрные аккаунты, возлюбившие наш дайджест. Почти у всех у них три тыщи подписчиков на три тыщи подписок - соотношение, которое наводит на мысли о масс-френдинге. Не знаю, случайность это или нашей инсте на тему психологии так повезло. Интересно, какой хэштэг надо добавлять в подписи к постам, чтобы массово повалили френдить автолюбители или горнолыжники?
В целом, Инстаграм очень позитивная и дружелюбная, преимущественно женская среда. Пост соберёт больше лайков, если вы говорите:
- про то, что человек хочет знать о самом себе
- про то, что нужно человеку
- что-то новое, неизвестное
- что-то мудрое и авторитетное
- что-то искреннее
или если вы
- удивили
- развеселили
- поймали эмоциональный момент в объектив и выложили кадр в Инстаграм.
Процитировано без скриншотов и с сокращением текста