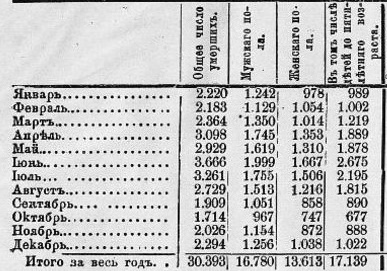О торговле детьми в Российской империи на рубеже XIX-XX вв
*
В русских и карельских волостях в конце XIX века была популярна игра «Котя, котя, продай дитя»: «Игроки представляют, что имеют у себя каждый по ребенку, а часто даже приглашают маленьких детей и садят их перед собою. Садятся обыкновенно кружком…»
Водящий обращается к одной из пар со словами: «Котя, котя, продай дитя!» В случае отказа ему отвечают: «Сходи за реку, купи табаку!» Если игрок соглашается и говорит: «Продам», он тут же должен бежать по кругу в одну сторону, а спрашивающий — в другую. Кто раньше прибежит к «проданному» — тот садится, а опоздавший снова начинает «покупать» [1].
Это была не просто детская забава в конце XIX – начале XX века на самом деле покупали и продавали.
Даже во второй половине ХХ столетия от сельских жителей Карелии можно было услышать рассказы о том, как местные купцы помимо дров, сена, дичи поставляли в Петербург и живой товар. Они собирали малолетних детей у бедняков, обремененных большими семьями и отвозили их в столицу, где детский труд был широко востребован.
Старожил карельской деревни Пелдожа А. И. Баранцева (1895 года рождения) вспоминала коллизию, развернувшуюся в семье Мярян: «Куча детей у них родилась: Мийккул, затем Настуой, затем Анни и Мари были. Всех их родители отправили в Питер, там и жили. Видишь ли, раньше бедные родители часто продавали своих детей в прислуги к богачам в Питер. Так отправили в Питер и детей Мярян…» [2]. Традиционно ребенок считался «готовым» к отправке в город в 10 лет. Но при возможности родители предпочитали отсрочить уход мальчика из семьи до 12-13, а девочки — 13-14 лет.
На первой неделе Великого поста сотни подвод, в каждой из которых размещалось от трех до десяти детей, тянулись по крепкому насту из Олонецкой губернии в столицу. Петербургский писатель и журналист М. А. Круковский написал на основе своих впечатлений цикл очерков «Маленькие люди». Один из них — «Приключение Сеньки» — рисует историю крестьянского мальчика, отданного отцом за пять рублей в Петербург. «У крестьян Олонецкого края, — писал Круковский, — во многих прионежских деревушках существует неразумный, бессердечный обычай без особой нужды (курсив мой. — О. И.) посылать детей в Петербург и отдавать их мелким торговцам в услужение, «в обучение» как говорит народ» [3]. Публицист был не совсем прав. Именно нужда заставляла крестьянина принять непростое решение. Семья на некоторое время избавлялась от лишнего рта, надеясь в будущем получать от «бурлака» (так крестьяне называли проживающих и зарабатывающих «на стороне») денежную помощь.
Торговля детьми, скупка и доставка в Петербург дешевой рабочей силы становилась специализацией отдельных крестьян-промышленников, которых в быту именовали «извозчиками» или «рядчиками». «Помню хорошо, в Киндасове жил некто Патроев… Он все время набирал детей и увозил в Питер. Вася Лаурин, мой брат Степан Секон, Гриша Родин, Мария Ивановна… Мари Мярян — все они были в Питере [подручными]. Патроев отвозил их в кибитке, вот как раньше детей продавали. А потом купцы там были, мастера, они заставляли детей работать в пошивочных [и других мастерских] шили да все», — вспоминала Баранцева [4]. Во второй половине ХIХ века поставкой детей из Олонецкого уезда в Петербург успешно занимался крестьянин Федор Тавлинец, проживавший в деревне Погост Рыпушкальской волости. За 20 лет он отправил в столицу около 300 крестьянских детей. Там он устраивал их в ремесленные заведения, заключал контракт с ремесленниками на обучение и получал вознаграждение за поставку учеников. О его деятельности властям стало известно, когда «извозчик», нарушая договоренности, попытался уклониться от передачи части вырученных денег родителям [5].
Мальчиков обычно просили разместить в магазины, а девочек — в модные мастерские. Они снабжали ребенка одеждой и провизией на дорогу, паспорта же вручали промышленнику. С момента увоза судьба детей всецело зависела от случая и, прежде всего, от возницы–промышленника. «Извозчику» не платили за перевоз, он получал деньги с того человека, которому отдавал в обучение ребенка. «Понятно, что при таких условиях, — писал житель села Кузаранда Н. Матросов, — последний рыскает по столице и разыскивает место, где ему дадут побольше денег, не спрашивая, способен ли ребенок к данному ремеслу, хорошо ли ему будет жить и что выйдет впоследствии» [6].
За каждого ребенка, сданного в учение на 4-5 лет, «извозчик» получал от 5 до 10 рублей. При увеличении срока обучения цена возрастала. Она в 3-4 раза превышала сумму, отданную скупщиком родителям, и в значительной степени зависела от внешних данных, состояния здоровья и расторопности малолетнего работника. Лавочник или хозяин мастерской оформлял ребенку вид на жительство, обеспечивал его одеждой и питанием, получая взамен право всевластно им распоряжаться. В судебной практике того времени подобное явление фиксируется именно как торговля детьми. Например, хозяйка одной из ремесленных мастерских на суде объясняла, что в Петербурге принято покупать детей в учение, в результате чего покупатель приобретает право пользоваться рабочей силой ребенка [7].
Масштабы торговли детьми в конце XIX века, по мнению современников, приобретали громадные размеры. Круковский рисовал удручающую картину, наблюдавшуюся при появлении скупщика ранней весной: «Стоны, крики, плач, иной раз — ругань слышны тогда на улицах безмолвных деревень, матери с бою отдают своих сыновей, дети не хотят ехать на неизвестную чужбину» [8]. Закон признавал необходимость обязательного согласия ребенка, отдаваемого в обучение ремеслу, или «в услужение»: «Не могут быть отданы дети родителями без собственного их согласия…» [9]. На деле же интересы детей в расчет, как правило, не принимались. Чтобы закрепить свою власть над ребенком, покупатели брали от родителей долговую расписку.
Но не только бедность заставляла олонецких крестьян расставаться со своими детьми. Воздействовали и уверения, что в городе ребенок будет определен «на хорошее место». Народная молва хранила память о богатых выходцах из Карелии, сумевших разбогатеть в Петербурге. Рассказы об их капиталах будоражили мысли и чувства карельского крестьянина. Неслучайна пословица — «Miero hinnan azuw, l’innu neidižen kohendaw» — «Мир цену установит, город девушку сделает лучше» По наблюдениям чиновников, священников, учителей каждый отец, имевший нескольких детей, мечтал отправить одного из них в столицу.
Однако не все дети могли быстро привыкнуть к новым условиям жизни в городе. Карельский сказитель П. Н. Уткин рассказывал: «Увезли меня в Питер и определили на пять лет мальчиком к сапожнику. Ну, мне стало жить очень плохо. В четыре часа утра разбудят и до одиннадцати вечера на побегушках». Герой повествования решился бежать [10]. Многие по разным причинам уходили от хозяев, вынуждены были скитаться. В рапорте уездного исправника Олонецкому губернатору в конце ХIХ века было зафиксировано, что отданные в учение, а по сути дела проданные в Петербург, дети «подчас почти полунагие в зимнее время, прибывают разными путями на родину» [11].
Охрана детского труда законодательно распространялась лишь на крупное производство, где надзор за исполнением законов осуществляла фабричная инспекция. Ремесленные и торговые заведения оказывались вне этой сферы. Законодательно возраст вступления в ученичество не оговаривался. На практике обычно не соблюдалось и установленные «Уставом о промышленности» ограничения продолжительности рабочего дня учеников — с 6 утра до 6 вечера, и тем более, назидание мастерам: «…Учеников своих учить усердно, обходиться с ними человеколюбивым и кротким образом, без вины их не наказывать и занимать должное время наукою, не принуждая их к домашнему служению и работам» [12]. Условия жизни, в которых оказывались подростки, толкали их на преступления. Треть всех правонарушений, совершаемых малолетними в начале ХХ века (а это были в основном кражи, вызванные недоеданием), приходилась на учеников ремесленных мастерских [13].
Материалы олонецкой печати дают представление о том, как складывались судьбы проданных в Петербурге детей. Кому-то, как говорила пословица, Питер становился матерью, а кому-то — мачехой. Многие из оказавшихся в столице детей вскоре оказывались «на дне» петербургской жизни. О них инспектор народных училищ С.Лосев писал:
«В то же время, когда Великим постом в Петербург направляются из Олонецкой губернии подводы с живым товаром, из Петербурга бредут по деревням и селам пешком, побираясь Христовым именем, оборванные, с испитыми лицами и горящими глазами, нередко пьяные, смиренные при просьбе милостыни и нахальные в случае отказа в ней, молодые парни и зрелые мужчины, изведавшие петербургское «ученье» в мастерских, петербургскую жизнь…» [14].
Среди них было немало тех, кто в наказание за нищенство или другие проступки был лишен вида на жительство в столице. С детства оторванные от крестьянского труда, эти люди разлагающе воздействовали на односельчан. Пьянство, прежде не свойственное карелам, получало распространение в их среде в конце XIX — начале ХХ века, особенно среди молодежи и 15-16-летних подростков. Тот, кто стыдился своего возвращения неудачником в родную деревню, пополнял ряды «золоторотцев».
Впрочем, немало было молодых людей, которые «удержались на плаву», адаптировались к городской жизни. По мнению современников, из всех «ценностей» городской цивилизации они освоили лишь лакейские манеры и так называемую «пиджачную» культуру, состоявшую в манере одеваться по определенному шаблону. Подростки стремились вернуться в деревню в «городском» костюме, вызывавшем почет и уважение сверстников. Появление новой вещи не оставалось незамеченным близкими и знакомыми. Принято было, поздравляя с обновкой, говорить: «Аnna jumal uwdištu, tulien vuon villaštu» — «дай бог обновку, а в будущем году шерстяную». Как правило, первым делом подросток покупал галоши, которые по возвращении в деревню независимо от погоды одевал по праздникам и на беседы. Затем, если позволяли средства, приобретались лакированные сапоги, часы, пиджак, яркий шарф… Просвещенные современники смотрели на это с иронией. Один из них писал: «Сколько спеси и глупого чванства, к сожалению, приносят лакированные сапоги с собой. Человек перестает узнавать своих ближних из-за блеска сапог. Единственно утешает в сих случаях то обстоятельство, что сняв с себя галоши и сапоги, он становится прежним Васькой или Мишкой» [15].
В отличие от отходников на лесозаготовки и другие ближние промыслы, зарабатывавших на новую рубашку к Пасхе, сапоги или пиджак, «питеряки», «питербуры», то есть парни, работавшие долгое время в столице, обладали «щегольским» костюмом и составляли особо уважаемую и авторитетную группу деревенского молодежного сообщества. Вот детали одного из вариантов «изящного» костюма 13-14-летнего парня, возвратившегося в Олонецкую Карелию из Петербурга в 1908 году: пестрые брюки, котелoк, красные перчатки [16]. Также мог присутствовать зонтик и надушенный розовый носовой платок. Статусная роль одежды в карельской культуре выражена достаточно ярко. Видимо, поэтому в карельском языке слово «herrastua», наряду со значениями «щеголять», «франтить», имеет и другой смысл — «мнить себя начальником».
Наиболее удачливые и предприимчивые «выученики Петербурга», сумевшие разбогатеть и даже стать хозяевами собственных заведений, были, конечно, не многочисленны. Их визитной карточкой на родине становился большой красивый дом, в котором жили родственники и куда время от времени наезжал хозяин. Слава и капиталы этих людей являлись веским аргументом для крестьянина, отправлявшего своего ребенка в столицу.
Влияние города на жизнь подростка в конце XIX — начале ХХ века было неоднозначным. Современники не могли не отметить позитивное воздействие — интеллектуальное развитие юношей и девушек, расширение их кругозора. В большей мере это относилось к тем, кто проработал на фабриках или заводах Петербурга. Вернувшись в деревню, эта немногочисленная часть молодежи уже не расставалась с книгой.
И все же принудительная отправка детей в город вызывала озабоченность прогрессивной части общества. Крестьянин-карел В. Андреев из деревни Сямозеро писал:
«Увезенные в город и помещенные в мастерские — они [дети. — О.И.], принужденные жить в помещениях хуже собачьих конур, питаемые отбросами и разной бурдой, постоянно избиваемые хозяевами и мастерами — большинство хиреет, и гостьей всех этих мастерских — скоротечной чахоткой уносится в могилу. Меньшинство же, перенесшее каким-то чудом все эти мытарства, достигало звания мастера, но, живя в пьяной и развратной компании несколько лет, само заражалось этими пороками и преждевременно сходило в могилу или пополняло ряды преступников. Дельных и работящих мастеров считалось и считается весьма мало».
Ему вторил крестьянин П. Коренной: «Выходят в люди десятки, сотни гибнут. Их душит городская жизнь, отравляет организм, портит нравственно, возвращая деревне людей болезненных, с испорченной нравственностью» [17].
Примечания.
1. Олонецкие губернские ведомости. 1897. 10 сентября.
2. Баранцев А. П. Образцы людиковской речи. Образцы корпуса людиковского идиолекта. Петрозаводск. 1978. С. 112.
3. Круковский М. А. Маленькие люди. М. 1907. С. 57.
4. Баранцев А. П. Указ. соч. С. 130.
5. Национальный архив Республики Карелия (далее — НА РК). Ф. 1. Оп. 1. Д. 49/98. Л. 4—5.
6. Матросов Н. Село Кузаранда Петрозаводского уезда//Вестник Олонецкого губернского земства (далее — ВОГЗ). 1908. № 20. С. 15.
7. Труды I Всероссийского съезда по борьбе с торгом женщин и его причинами, происходившего в СПб. С 21 по 25 апреля 1910 г. СПб. 1911. С. 104.
8. Круковский М. А. Олонецкий край. Путевые очерки. СПб. 1904. С. 247.
9. Свод законов Российской империи. Т. Х. Ч. 1. Ст. 2202—2203.
10. Конкка У. О собирании и некоторых особенностях карельских сказок//Карельские народные сказки. М.; Л. 1963. С. 50.
11. НА РК. Ф. 1. Оп.1. Д. 49/98. Л. 4—5.
12. Законы о детях. Сост. Я. А. Канторович. СПб. 1899. С. 177.
13. Окунев Н. А. Особый суд по делам о малолетних: Отчет Санкт-Петербургского столичного мирового судьи за 1910 г. СПб. 1911. С. 37.
14. Холодная В. Г. Символика и атрибутика праздничного костюма парня в русской деревне с 40-х годов XIX по 20-е годы ХХ в.//Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре. М. 2001. С. 136.
15. И. М. Стекольный промысел в Ладвинской волости Петрозаводского уезда//ВОГЗ. 1909. № 13. С. 20.
16. Лосев С. Наброски и заметки//ВОГЗ. 1909. № 2. С. 9.
17. Андреев В. К открытию в Сямозерской волости двухклассного училища//ВОГЗ. 1908. № 24. С. 20; Коренной П. О нашем сельском хозяйстве//ВОГЗ. 1910. № 15. С. 33
***
Источник:
«КОТЯ, КОТЯ, ПРОДАЙ ДИТЯ»
ИЛЮХА ОЛЬГА1
1 Институт языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН, сектор истории, 185910, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский
Номер: 11 Год: 2004 Страницы: 79-82
https://elibrary.ru/item.asp?id=17940835
Какая «лепота», не находите? Только вот среди проданных ни одного дворянского чада нет, – не подскажете, почему, всякие представители бесконечных «дворянских собраний», «императорских домов», «бѣлых дел» и «бѣлых гвардiй»? Как у вас там –"Не забудем не простим"?