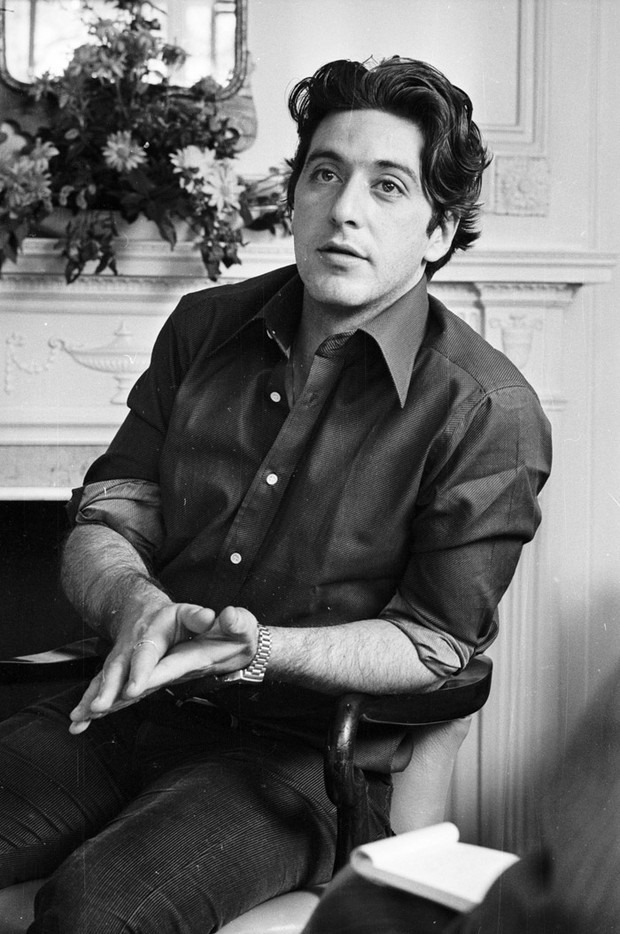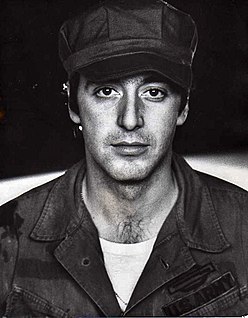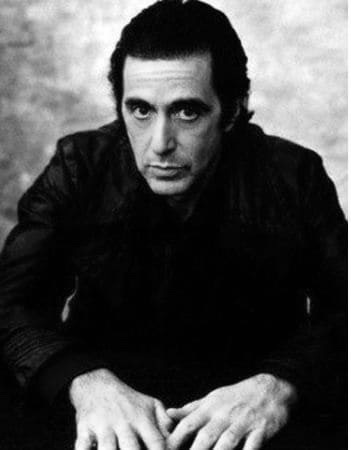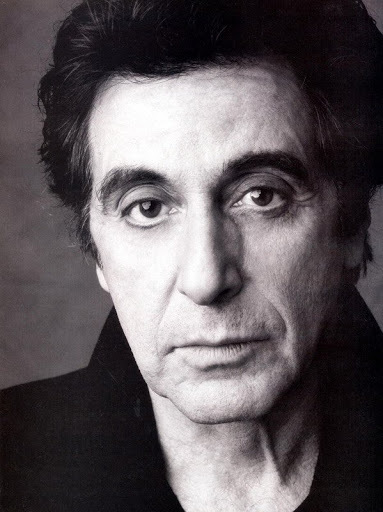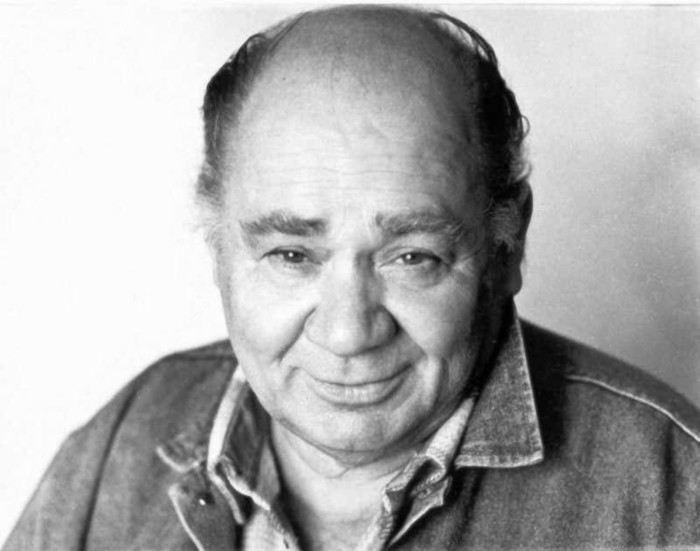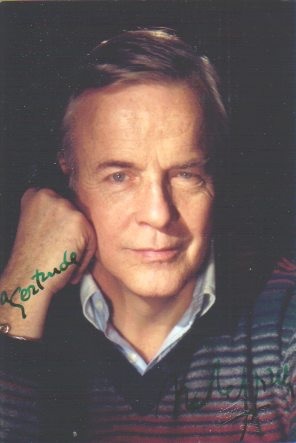Я навсегда запомнила ее такой, какая она была в фильме «Короткие встречи».
Такой она для меня и остается.
Когда-то я внезапно обнаружила для себя несколько удивительных фактов про Киру Муратову.
Во-первых, что бы я ни попыталась сказать о фильмах Муратовой — немедленно обнаруживала, что это кем-то прежде уже было сказано.
Ну, слова, может быть другие.
А мысли — схожие.
И написано про нее столько, что вступать в состязание бессмысленно: просто бери и читай уже сказанное.
Во-вторых: и хулят, и хвалят ее практически за одно и то же. Подолгу муссируя не столько ее фильмы, сколько собственные ощущения от них.
И, в-третьих: сейчас прессу и телевидение буквально захлестнет от панегириков, кинематографическая общественность непременно начнет писать парадные биографии, выкапывая в словарях всё новые слова для описания мучений Художника при тоталитаризме, и всё новые эпитеты для ее старых и новых работ. Еще бы: в сущности, их ведь уже единицы оставались — киноклассиков еще той поры, когда догоняли и перегоняли Америку, любили троекратно целоваться с лидерами зарубежных компартий, а партийные чиновники высокого ранга не гнушались лично редактировать фильмы (цензурой это тогда не называлось).
Вступать в эту гонку не хочется.
А вот то, что Кира Муратова, которая никогда ни одному из правящих режимов не нравилась (просто одни ее совсем не терпели, а другие — терпят), вовсе не была в своем творчестве «борцом с режимами», — вдруг показалось существенным.
Мало того, обнаружилось, что она всегда совершенно искренне старалась понять ИХ, и, что совсем невероятно, объяснить ИМ, в чем ОНИ неправы.
И этот-то удивительный феномен показался настолько неожиданным, что именно о нем и хочется поговорить.
Кинематограф Киры Муратовой сегодня уже было бы смешно и странно исчислять количеством фильмов, снятых ею (их столько, что хватило бы на две достойные режиссерские фильмографии), или количеством призов и наград, полученных за эти фильмы.
Кинематограф Муратовой сегодня — спокойно и без пафоса — можно исчислять эпохами нашей жизни. Даже нет — не нашей жизни — нашего мироощущения и самоощущения.
Собственно, вехи ее кинематографа так и можно было бы обозначать: надежда — ожидание — сомнение — последняя надежда — совсем последняя надежда — разочарование — большое разочарование — тотальное разочарование — диагноз…
Ну, и дальше — по списку, как на приеме у врача — от простуды до инфаркта.
Муратова — едва ли не единственная в нашем кино, про кого невозможно сказать слова «ее кинокарьера». Не потому, что язык не поворачивается, а просто по факту. Потому что никакой карьеры не было. То есть, совсем.
То, что в постсоветские годы Муратова стабильно (практически гроздьями) получала за каждый новый фильм всевозможные призы и награды, ничего в этой биографии не меняет.
Как жила — так и жила, как снимала — так и снимала.
Культовым режиссером она стала с первой же самостоятельной картины — с «Коротких встреч». А уж «Долгие проводы» вообще сделали ее одним из авторитетнейших режиссеров советского кино.
(Представляю себе сейчас, как бы она расхохоталась, читая эти строки!).
И, тем не менее.
В самом начале 80-х, под Новый год, за рюмкой чаю, в огромной компании три больших ленинградских режиссера состязались в том, что до деталей описывали эпизоды двух ее ранних картин. И до каких мелочей они эти эпизоды помнили — это надо было слышать!
Слова «великий фильм» или «великий режиссер» ни разу не были произнесены. Зачем? Достаточно было самого факта этого состязания, и тех слов: «как она ЭТО делает — фиг ее знает!».
Заметьте, это говорилось о человеке, который еще не так давно был разжалован из режиссеров-постановщиков в студийные садовники (это, кажется, называлось «мастер по озеленению территории»). А те самые две великие ее картины были официально названы «провинциальными мелодрамками».
А спустя какое-то время после описанной сцены, предметом обсуждения в кулуарах стало то, что Муратова сняла свое имя из титров замечательной картины. Потому что эту картину «заредактировали». Или попросту — порезали.
И опять-таки. Не у нее одной фильмы резали. Подчас так, что в сухом остатке были «рожки да ножки». На всех студиях страны стоял режиссерский плач и стон. А вот на «Ивана Сидорова» или «Ивана Иванова» в титрах смогла решиться только она.
И снова — неточно. Не «смогла решиться» (это вообще не про нее!). Категорически отказалась подписывать своим именем этот фильм, да и всё. И точка.
Штука вся в том, что Муратова не боролась с режимом, не дружила с ним, она жила параллельно режиму. Не только советскому — любому.
Точно так же, как жила параллельно так называемому «общественному мнению».
Точно так же, как параллельно так называемому «хорошему тону».
Она просто всегда была — автономная.
Именно тогда, когда снимать кино о «простом рабочем человеке» стало для каждого уважающего себя режиссера совсем неприлично (просто потому, что таков был заказ режима), Муратова, аккурат, снимает оду этому самому «простому рабочему» — фильм «Познавая белый свет». И где — на «Ленфильме»!
Ее отношения с социумом вообще непредсказуемы.
В «Коротких встречах» героиня фильма — председатель исполкома. Советская номенклатура. Чиновница. Теперь вот — «простые рабочие».
Потом — еще круче: участковый.
Фактически, если со стороны глянуть, она бы должна была сделать феноменальную карьеру в советском кино. В президиумах должна была сидеть.
А ее выгоняли отовсюду. Почему же?
В 1968 году Сергей Герасимов, ее мастер и Учитель, о котором Муратова всегда вспоминает с теплотой и любовью, сказал о своей бывшей студентке быть может самые точные слова из всего, что было о ней сказано до и после. «Она необычайно последовательна в своем желании понять человека».
Мне кажется, что именно тут ключ ко всему, что делала в кино Муратова.
Вовсе не в том, как менялся с годами ее творческий стиль и почерк (а он менялся, и значительно); и не в том художественном эпатаже, который свойствен целому ряду ее картин последнего десятилетия.
Отталкиваясь от герасимовской характеристики режиссерского естества Муратовой, шаг за шагом следуя за ее фильмами, легко можно прийти к вполне объемлющей формуле ее творчества: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас и всяк полюбит!».
Кажется, она дольше других своих современников звала «полюбить беленьких». Разумеется, речь не о тех, кто просто выполнял заказ. Речь только о тех, кто искренне верил в «комиссаров в пыльных шлемах». Да ведь и немудрено было верить-то в середине 60-х.
Она, в самом деле, искала — и находила — в тогдашнем человеке (геологе ли, чиновнике, домработнице, переводчице, матери-одиночке, малярше и шофере, — да всех и не перечесть) то невидимое миру совершенство, ради которого и стоило снимать кино. И именно это совершенство — у нее так не нарочно выходило — сокрушительно портило им всем жизнь.
И ей самой — тоже портило, и тоже сокрушительно.
Она снимала кино про обыкновенную Большую Любовь и обыкновенное Истинное Благородство. А получалось — и на экране и в жизни — что никому это не нужно. И что «беленьких» любить не хотят.
Нет, разумеется, она не стала «назло» кому-то там делать кино про «черненьких». Кто-то где-то написал про Муратову, что, мол, она от обиды на власть сняла «жестокие и циничные фильмы «Среди серых камней» и «Перемена участи».
Вот уж нет. И не циничные, и не от обиды. Жестокие — возможно. Но — давайте снова вспомним слова Герасимова. Она смотрела вокруг. И повествовала о том, что видела. Всего-то.
Впрочем, «повествовала» — это вообще не про Муратову.
Она никогда не рассказывала историй. Истории могли сами складываться внутри ее фильмов, потом — рассыпались. Потом снова складывались.
А она занималась тем, что кроме нее почти никому в мировом кино не удавалось. Она выносила на экран мир ощущений. Не чувств, а именно ощущений (чувства в ее картинах возникали — как и истории — сами собой). А для нее было важно, что в данную минуту испытывает слегка чокнутая медсестра в балетной пачке («Увлеченья»), которая что-то говорит-говорит-говорит, и всё никак у нее не получится рассказать о своих ощущениях… И что испытывает женщина, только что похоронившая близкого человека («Астенический синдром»), которая ведет себя совершенно «неправильно». Почему-то злится, почему-то орет, вместо того, чтоб говорить приличествующие случаю слова и тихо плакать…
О фильмах Муратовой писали, что они точно отражают смены эпох, сломы эпох, и даже, мол, сами названия их — это как диагноз: «Короткие встречи» — «Долгие проводы» — «Познавая белый свет» — «Среди серых камней» — «Перемена участи» — «Астенический синдром» — «Увлеченья»…
В самом деле, похоже.
Правда, как только об этом стали писать, Муратова тотчас перестала давать своим лентам подобные названия. Уверена, что не нарочно (как всегда). Само так вышло.
Но — вышло.
Она всю дорогу собирала вокруг себя довольно странных персонажей. Почти таких же странных, как она сама. Надо ли говорить, что все они «вышли в звезды».
Нина Русланова, Зинаида Шарко, Геннадий Карюк, Олег Каравайчук, Виктор Аристов, Сергей Попов, Наталья Лебле, Рената Литвинова, Алексей Жарков, Георгий Делиев.
Разумеется, «круг Киры» этим списком не ограничивался. Но, правда: «странные люди» всегда притягивали ее, как магнитом, и сами тянулись к ней.
Впрочем, у нее любили сниматься и «готовые» звезды.
Ее интерес к человеку в последние 10 лет всё больше начинает походить на рассматривание этого самого человека под микроскопом. Как какого-то экзотического насекомого.
Это говорится не в упрек и не в обиду Художнику.
Это — констатация факта.
Но, удивительное дело: И «Три истории», и «Чеховские мотивы», и «Два в одном» — фильмы, появившиеся на свет именно в ту эпоху, когда и в самом деле человек стал вести себя (и ощущать себя) как насекомое. И я совершенно убеждена: Муратова ничего плохого про человека сказать не хотела. Он ей интересен любой — такой вот, в том числе. А уж то, что в результате опять получился диагноз — не ее вина.
Само так вышло. Не нарочно. Она — не хотела.
Иногда складывается впечатление, что Кира Георгиевна — нормальный медиум. Что она просто транслирует на экран то, что чувствуют, то, что хотят, то чем живут сегодня вокруг нее люди.
Я не знаю — каково это — пропускать всё это через себя. Подозреваю, что больно. Ну, во всяком случае, не очень здорово для медиума. Но она не специально выбирала для себя эту боль. Так вышло, и она с этим жила.
Я тут всё время говорю: «мы», «нас», «про нас».
А Кира Муратова в один прекрасный день оказалась для нас иностранкой… И, спаси Бог, как бы дело не дошло до обвинений в великодержавности.
Но по мне — живи она хоть в Париже, хоть в Лос-Анджелесе, хоть в Республике Зимбабве — она была, есть и останется человеком русской культуры. И с этим ничего не поделаешь. Независимо от отмененного пятого пункта в паспорте или изменения государственных границ.
Для тех, кто с этим тезисом захотел бы поспорить, есть совершенно железный аргумент, который Кира Муратова любезно предоставила всему человечеству.
Лента «Настройщик».
Лента, под которой, по моему скромному разумению (пожалуйста, можете надо мной смеяться!), не зазорно было бы подписаться и лично А. П. Чехову.
Лента совершенно чеховского мировосприятия, отношения к действительности и человеку, абсолютно чеховской прозрачности письма и совершенства стиля.
Это, что называется, культурный слой.
Не тот тоненький, как лакировка на мебели, который нередко свойствен нуворишам от кинематографа, а толстенный пласт культуры, создававшийся многовековой историей.
Это фильм-совершенство.
Когда, собственно, и обсуждать нечего.
Можно только созерцать, открывши рот, и, в конце просмотра, брякнуть какой-нибудь трюизм.
Вроде этого: «Кира Муратова — гений».
Ирина Павлова
20.06.2009