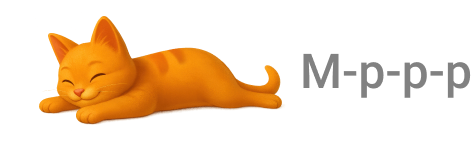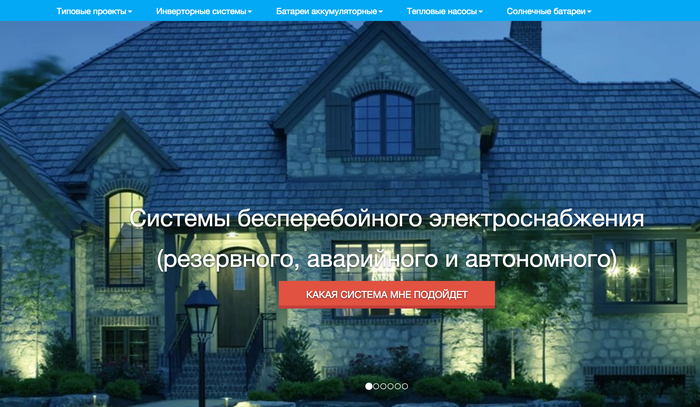Жизнь и творчество Джо Дассена
20 августа 1980 года в ресторане «У Мишеля и Элиан» на острове архипелага Таити, носящем название Тахаа, ровно в полдень высокий брюнет с голубыми глазами упал на пол и даже случайно оказавшемуся здесь врачу не удалось сделать так, чтобы остановившееся сердце снова пошло. Он медленно поднялся и с трудом выговорил: `Все кончено:Ничего нельзя сделать:` Мне было десять лет.
Много позже я хорошо узнал эти французские рестораны в заморских департаментах, рестораны, которые содержат немолодые пары, по тем или иным причинам не прижившиеся в метрополии. На берегу, поросшем кокосовыми пальмами, склонившими свои кроны под не стихающими ночью и днем ветрами, срывающими с верхушек гудящих волн соль, едва растворенную брызгами воды. Водой насыщены здесь испепеляющие дни и чернильные ночи, заливающие город после стремительного тропического заката тяжелым дыханием океана. Пара лет здесь, под пальмами, проходит как пара часов, и вот уже жизнь неотличима от прибоя, приходящего и уходящего вслед за луной столько лет, сколько песчинок он переносит в своей мутной стене. Лучшее место для того, чтобы забыть о смерти. Лучшее место, чтобы открыть ресторан. Лучшее место, чтобы умереть.
По странной случайности я помню этот день, помню разговоры о Дале и Высоцком. Но когда я думаю о физическом расстоянии, разделявшем тогда меня и бетонный пол ресторана «У Мишель и Элиан», расстоянии между путями судьбы десятилетнего русского мальчика и американского француза по имени Джозеф, не пережившего повторного инфаркта там, на Таити, мне становится не по себе. Пройдет только два года, и песни этого человека заставят меня первый раз по собственной воле взять в руки французско-русский словарь. А за окном ранняя московская весна будет разливать в воздухе радостное чувство бесконечной радости и первой любви.
Моя первая любовь, школьный безответный роман. Перепачканные чернилами руки, портфель до дома, игра в «кис-мяу» в полутемной комнате, пока родители возятся на кухне с неизменным пирогом. Ее дороги во французскую спецшколу были ясно очерчены происхождением и буквой «р», которую упорно стремились исправить логопеды, а я оказался с ней за одной партой в силу любви моей мамы к романам Дюма.
Я с наслаждением втыкал булавку чуть ниже линии ее школьного платья, залегавшего ловкими складками вокруг не по-детски правильных бедер, а она отвечала мне увесистой затрещиной, выбивая о мою голову пыль из `Родной речи`. А потом - пылание этой школьной страсти, замешанное на беззаветной любви к неизвестной нам Франции, сведения о который мы черпали из написанных в пятидесятых учебников да с потрескивающих винилов. Этими песнями говорила наша любовь - мы едва понимали в них половину, а если бы у нас и был перевод, что бы мы поняли в мудрых и человечных текстах, за которыми стояло самое главное - умение принимать жизнь, жизнь, о которой в 13 лет неизвестно вообще ничего, кроме того, что она есть, и тем не менее:
Кто же был этот человек и почему это было так? Как могло случиться, что популярность этого Джозефа - известного всему миру как Джо, Джо Дассен - затмила в Москве семидесятых и Битлз и АББУ?! Один из возможных ответов я прочел на обороте затертого конверта его «апрелевской» пластинки: `В чем же секрет? Может быть, в том, что он поет в особенной, сверхмодной манере? Нет: (Оцените это многоточие.) Его исполнение отличается большим вкусом, чувством меры, присущим лишь настоящим художникам. Для него, пожалуй, наиболее характерна особая разговорная, доверительная интонация, которая делает песню близкой и понятной даже тем слушателям, которые не знают французского языка`. Все верно, но почему-то вспоминается довлатовский пассаж про слова, похожие на стеклотару, в которой, увы, нет уже ни грамма.
Не в том же секрет, что его дед был одесским евреем - есть ли на свете что-нибудь более русское, чем одесский еврей? - и не в том же, что его первая свадьба состоялась в русском ресторане? Или, может быть, его подняла волна советско-французской дружбы, золотой эпохи Жискара, когда неутомимый Пьеро Бельмондо с боксерской улыбкой дырявил лбы проходимцам за себя и за того голливудского парня? На этой дороге можно подобрать подходящее объяснение тиражам его пластинок, но это будет только предместье ответов на главные вопросы. А может быть, их нет, этих ответов, в том понимании, которое мы любим вкладывать в мертвые слова?
Секрет его прелести, как и всегда, разгадке мира равносилен, и каждый раз, когда мне кажется, что нечто удается постичь, я упираюсь в парадоксы. Вот он перед нами - метр восемьдесят пять, голубые глаза, жабо и белая рубашка, проникновенный баритон - чем не романтический герой? И между тем - все, что он сделал, его песни, его тексты, аранжировки отличает полное отсутствие романтизма - у Дассена нет ничего условного, небесного и, стало быть, плохо понятного. Парадоксально и то, что человек, лучше говоривший по-английски, чем по-французски, занял место рядом с Пиаф и Брассенсом. Может быть, где-нибудь в истории его жизни найдутся удивительные подробности, объясняющие все это?
Он вышел из художественной среды - его отец, Жюль Дассен, после короткой театральной карьеры и работы ассистентом Хичкока к концу пятидесятых стал режиссером с мировым именем, мать Беатриса, или Беа, была скрипачкой, которая концертировала с многими грандами мировой классической музыки. Джо родился в Нью-Йорке, а до переезда семьи в Европу его детство ходило по Лос-Анджелесу и знаменитым пляжам, которые он проникновенно обессмертит песней «Нуазет и Кассиди» на взлете своей карьеры, потом - в далеких семидесятых.
История жизни Джо Дассена