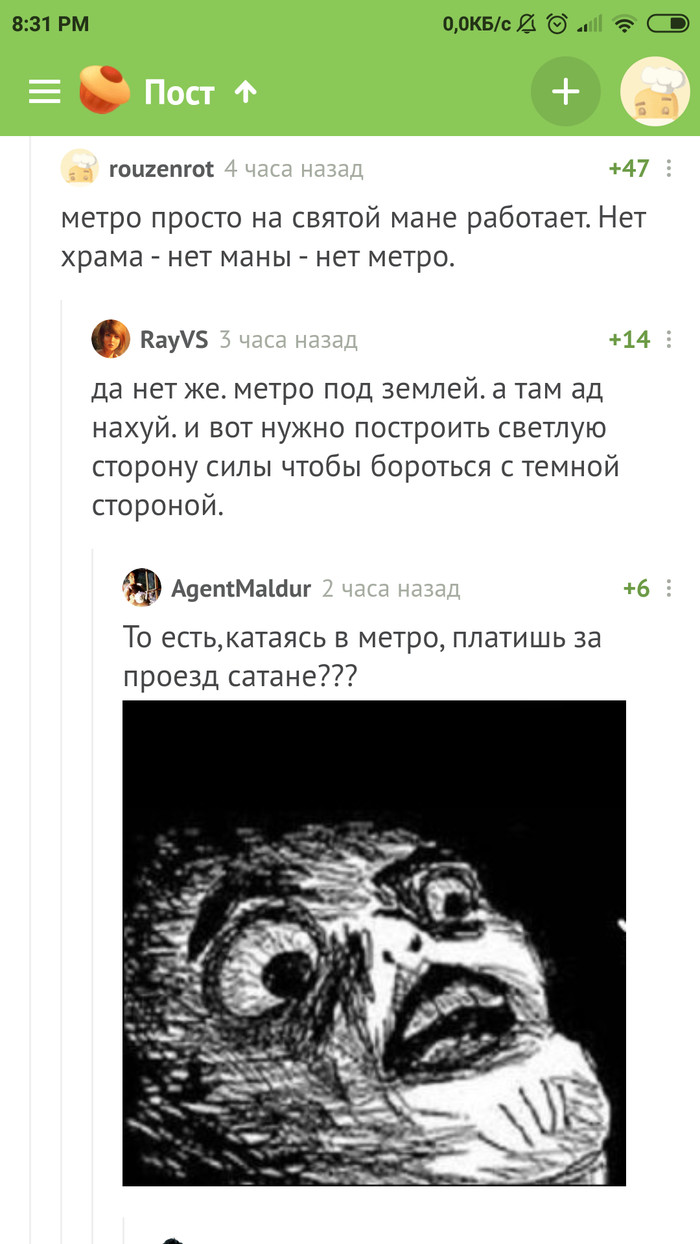Что главнее Феминизм или правила русского языка
Нашла на просторах интернета с чужой помощью.
Прочла и решила, что это должны увидеть на Пикабу.
Не МОЕ. Не для рекламы. НЕ согласна с автором!
"Ресурсного центра для ЛГБТ" для СМИ
ознакомиться с полным текстом брошюры можно в интернете.
"Феминитивы: что, где, когда"
Новые слова нередко звучат поначалу непривычно. К примеру, когда-то в русском языке не было слова «студентка», теперь оно используется повсеместно.
Язык постоянно меняется. Он не статичное нечто, существующее изолированно от носителей и носительниц. Изменения в языке происходят не быстро, потому что его задача — объединять огромное количество людей разных поколений.
Приведу слова Элины Владимировны Чепкиной, профессорки, докторки филологических наук, которая преподавала мне русский язык и стилистику:
«Мне кажется, что мнение о том, что феминитивы — это что-то ужасное, во многом базируется на желании оставить язык неизменным. Но это очень наивное желание. Язык все равно каждый день меняется, и я по меньшей мере три новых слова каждый день слышу. Недавно мы обсуждали со студентами, как стало популярно слово «трушный» в значении «настоящий». Процесс появления новых слов очень разнообразен, и феминитивы лишь один из примеров. Поэтому я отношусь к языковым новациям как к чему-то рутинному» (1).
Однако если мы говорим о социальном равноправии, то язык — первейший инструмент в достижении равенства. Сложно добиться равноправия, если 50% населения игнорируется в языковой среде, скрываясь за «нейтральным» мужским родом.
Когда некоторые говорят о феминитивах с изрядной долей ненависти и непримиримы к любым логическим и филологическим аргументам, то это повод задуматься над причинами и заглянуть в себя.
Однажды я подверглась самой настоящей травле за использование феминитивов в текстах. Люди писали оскорбительные комментарии, присылали угрозы мне и моей семье в личные сообщения только за то, что я использовала 1 (один) феминитив в фанфике о двух мужчинах на 10 000 (десять тысяч) слов. Это продолжалось несколько дней, мне пришлось закрыть личные сообщения, но тогда оскорбления посыпались в личку моей бете.
После этого случая мне стоило большой внутренней работы, чтобы продолжать использовать феминитивы в фанфиках.
Ещё Цветаева (и Ахматова тоже) сказала, что она — поэт, а не поэтесса. И в настоящее время многие феминитивы звучат для представительниц этих профессий унизительно. Но в этом виноваты не феминитивы, а гендерное неравенство, существующее в обществе.
Быть женщиной — не стыдно. Я ни разу не слышала, чтобы мужчина не возмущался, когда его называли, например, писателем — «Зачем вы делаете акцент на мой род! Я в первую очередь пишу тексты, а уже во вторую — мужчина!»
Быть поэтессой — это быть женщиной, которая пишет стихи. А когда мы говорим, например, «женщина-хирург», то словесно подтверждаем, что для женщины получить медицинское образование и спасать жизни людей — нечто запредельное, совершенно ей не свойственное. Это звучит примерно как «бабуин-учёный».
Когда мы, обобщая, во множественном числе говорим — «журналисты, активисты, строители, работники» — мы словесно стираем труд и деятельность женщин.
Если феминитивы кажутся поначалу неблагозвучными, вычурными и надуманными — отрефлексируйте почему. Почему «ангстовый» и «даркфик» — нормально, а «авторка» и «врачиня» — нет? Почему слова женского рода «оскорбительны», а слова мужского рода звучат как комплимент? Почему «мужественность» — это синоним силы и твёрдости духа, а «женственность» синоним слабости?
Элина Чепкина:
«Очень часто это связано с тем, что человек привыкает жить с каким-то языковым употреблением и просто не готов с ним расстаться. Но если меня, например, назвать «профессорка», я не подумаю, что в этом есть что-то уничижительное для меня»(2).
Мы носители и носительницы русского языка, писатели и писательницы, переводчики и переводчицы доносим мысли на русском языке — и в наших силах сделать женщин видимыми, избавиться от сексизма и дискриминации в фанфикшене.
И снова приведу слова Элины Владимировны:
«Если мы готовы обсуждать какие-то специальные наименования для женщин, может быть, мы будем готовы и шире обсуждать такие проблемы, как уважение репродуктивных прав женщин — право распоряжаться своим телом, делать аборт, использовать контрацептивы, рожать, когда есть желание и возможность достойно позаботиться о ребенке. А не следовать принципу «дал бог зайку — даст и лужайку». Чтобы повышать рождаемость, нужно не с абортами бороться, а обеспечивать женщинам более гибкие условия труда: возможность перейти на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, доступность детских садов и многое другое. Иногда изменения в обществе начинаются с языка. Слова сами по себе ничего не решают, но они могут способствовать изменению отношения к разным людям» (3).