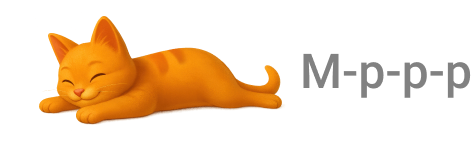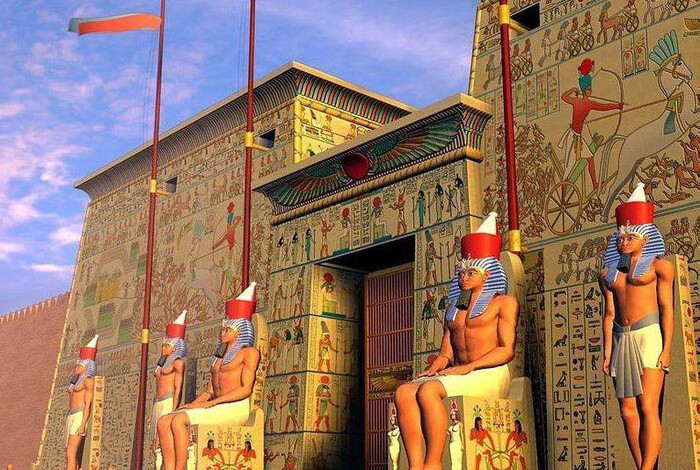«Смертельный рывок» (ч. 2/2)
— А вот мы с твоей бабкой, — голос хозяйки вернул её из воспоминания о сновидении. Та показывала ей фотографии из собственного альбома. В объектив фотоаппарата смотрели две юные девушки с хмурыми лицами и в самой лучшей одёжке, коей можно было обзавестись в послевоенное время, в двадцатых годах, так как школьной формы тогда совсем не было. Поверх светлого платьишка бабушки на голове красовалась тёмная файшонка — головной убор казачки из чёрных шёлковых нитей, представляющий собой кружевную косынку и обозначающий, что бабуня тогда уже вышла замуж.
Каллиста, доев очередную баранку, остановилась и вгляделась в свою третью чашку чая: на дне что-то померещилось. Это были мошки, — ползущие, всплывающие, оседающие на краях, мёртвые и живые, улетающие и тонущие. Они ползли на её руку. Девушка взвизгнула, вскочив со стула и уронив кружку на стол. Коричневое пятно растеклось на бежевой скатерти, но фарфор не треснул.
— Боже мой, простите меня! — сказала она, осознав, что только что произошло.
Отложив альбом в сторону и взяв с края стола полотенце, хозяйка промокнула разлившийся чай.
— Ничего, ничего... Отстирается... А шо это тебя так?
— На дне что-то показалось... Насекомое...
— Насекомое в чае? — удивилась Мария Ивановна. — Да быть такого не может...
— А если уш и было, — поддержала диалог Пелагея Прокофьевна, — ты городская шоли насекомых бояться?
— Нет, но... — Каллиста не смогла признаться, и покалывающее ощущение в пятках вернулось. — Думаю, мне пора домой. Мама ждёт.
— Уже? — удивилась Маняша.
— Да, я ненадолго заскочила...
— Ну бехи, бехи... — провожала бабуня. — Я уш скоро тоже буду...
Быстро надев туфли, Каля выбежала во двор. В слепой зоне глаз ей постоянно мерещились чёрные тени, из-за чего ускорялся и шаг. Осматриваться не было желания. Знала, что раз тихо, значит и никого. Это было слишком парадоксально: в кипящей бурной жизнью станице с разного рода скотом, птицами и питомцами, всё утро было тихо. Словно кто-то выкачал воздух, создав вакуум, сквозь который не пройдёт ни один звук. Или это не весь мир живёт без воздуха, а только она — время от времени. Ведь люди всё ещё работали, общались, гуляли и играли. Только она, неприкаянная, ходила с места на место.
Идти домой ей пока не хотелось. Она решила дождаться того момента, когда сможет зайти вместе с бабушкой, дабы не оставаться с матерью наедине. Не сейчас.
— Малиновка, малиновка! — крикнула какая-то девочка, и чёрная тень пролетела на глазах девушки, спутав ей все мысли.
Она почувствовала, как что-то невидимое стукнуло её в грудь, перекрыв кислород. За тенью последовали яркие, сменяемые одна за другой картины: алое небо с перистыми облаками над диким полем, высокий и большой костёр, над которым висел наполненный мясом и водой конский желудок в качестве котла посередине, скифский курган, жертвоприношение, битва лучников, где она целится в Санерга, чтоб что-то ему доказать, и он рассекает ей щёку. В ответ девушка попадает в его бедро стрелой, глубоко засевшей. Но мимолётная победа не приносит желаемого чувства восторга и успеха, а, скорей, подпитывает страх и вину. Сменяемые элементы в быстром темпе, словно кто-то танцевал, показывая их ей: золотая чаша, шкуры, реки крови, мечи, копья и стрелы, создающие царапины и шрамы на мускулистом теле, напоминающем уже не столько... сокола, сколько медведя... Хитрая ухмылка и пустота. Темнота. Каллисте показалось, что она ослепла: смотрит, но ничего не видит — сквозь веки даже не проходит луч света, хотя стоит здесь, на дороге, под полуденным солнцем. И по спине вновь и вновь проходил первобытный страх, ведь чернь создавала образы существ и людей, которых она не хотела бы видеть. Словно Санерг здесь, рядом, подошёл к ней как ни в чём не бывало, потянув свою жертву за руку. И девушке пришлось ступать наощупь за его очертаниями, пока каждый шаг раздавался бульканьем, рисуя большие и бледные круги, как будто это была не земля, а спокойное озеро, в коем она купалась ещё этим летом. Правда, ходить по воде Каллисте не приходилось. Он остановился и, отпустив её руку, исчез.
Краски вернули её к жизни, и от неожиданности у девушки закружилась голова. Ноги подкосились, и, упав в пожухлую траву и корневищные растения, девушка осмотрелась. То самое поле, на которое бежала ещё этим утром. «Но зачем? Чего я не способна была увидеть? Что хочет мне сказать парень?» — думала она.
Привстав, Малиновка пошла неторопным шагом вдоль поля, повторно начав его изучение. Каля была уверена: это была та самая земля, на которой когда-то жрец приносил жертву богу Арею, та самая, где стояло сгнившее дерево, существующее тысячи лет назад, та самая, где... Курган. Здесь, до прихода археологов, был скифский курган. Всё казалось нереальным, больным и невозможным. Не обряды варваров, не существование жизни до нынешнего века, а то, что с ней общался мёртвый дух, показывая вещи, что не мог видеть обычный человек. Только разве что больной шизофренией был способен на это. Она вспомнила легенду про «Прощальный курган» не просто так, ведь если отец умер на войне, то, может, земля со скифского захоронения лежит на его могиле? И это теперь связывает её семью с Соколом? Что если и Санерг, и Андрей даже ели когда-то на одном месте? Ведь казаки трапезничали на курганах, устраивая привал не хуже скифских.
Во всём Каллиста видела высший смысл, и каждая новая мысль как будто бы подтверждала её теорию, в которую она искренне верила. У человечества так было всегда: одержимый гипотезой видит во всём подтверждение собственной точки зрения, однако, доказательств не имевши, не подтвердишь, подвергнешься жёсткой критике. Значит, нужно сделать то, ради чего она в первый раз пришла в гости к Марии Ивановне, но на что не хватило духу: столь горько было постороннему человеку рассказывать.
Малиновка встретила бабушку почти у ворот подружки, в шагах ста от них.
— И долго уш ты здеся подшидаешь?
— Совсем чуть... Я на поле ходила, гуляла.
— Ишь чего удумала! И шо забыла только? — спрашивала бабуня, медленно шагая в сторону дома. Каля шла следом. — Своего уш вестника?
— Домой идти страшно, — призналась девушка. — Мама рассказала, что отец дезертир и его убили свои же. Но я не могу понять... Почему?
— Враки! Шо за глупость этакая?
— А как же всё тогда было?
— Видеть ли, красные нас не любили... Геноцид казачества, расказачивание, ликвидирование нас как сословия, вызвало в сороковых летах великое присоединение казаков к силам немецкой армии: наш захотел мести. Так много людей перешло на сторону Германии и убивало своих ше, столько уш партизан погибло от руки казака в содрушестве с немцами... За это при окончании войны их и выдавали насильственно Великобритания и США, после наших-то отправляли в ГУЛаг за измену родине. Там и поумирали, много, не все. Однако не было там Андрюши! Он уш не мог. Знаю, вырастила его сама, своими руками и силами нянчила. Не мог! Даше если и попал бы, то по ошибке. Не разбирался тогда уш никто...
— Но где тогда мой папа?
— Я уш догадывалась, что помер... — продолжала она начатую песню. — Никак, помер... Иначе давно бы вернулся домой... Он ведь так тебя любил, Калленька! Так любил... Враки! Враки плодит твоя мать, сволочь этакая, про твоего батьку! — бабуня возвела руки к небу, остановив собственный шаг, но, что-то укоризненно обдумав, успокоилась. — Глупая не мошет это приняти и сводит себя с ума.
— Да как же он умер? — спросила Каля, задержав дыхание.
— Прости, — в старых морщинках глаз появились слёзы, — не знаю я.
Они подошли к хате, и бабушка сразу направилась внутрь, проверить, как там невестка. Каллиста же пошла в сторону огорода. Сейчас там рос белый виноград, привезённый ещё отцом. Набухающие гроздья спелой ягоды нависали над её головой, греясь на солнышке. Об этой культуре она лично заботилась, и ей даже как-то тревожно было вкушать свои труды, так что предпочитала оставлять бабуне и маме: когда Малиновка брала ягоду в рот, всё в ней сжималось, словно ест подарок, который нельзя трогать до Рождества или Пасхи, тайно отмеченных в большом календаре. Тонкими и хрупкими пальчиками она прикоснулась к листьям винограда, будто этот контакт мог приблизить к мёртвому. «Ну где же ты, папа?» — спрашивала она про себя. Отвлёкшись, заметила, как небо начало постепенно темнеть с приближением вечера, но вовсе не от заката: с запада врывались в синь могучие серые тучи, предвещая обещанный ливень и грозу.
Каллиста нехотя зашла домой, прислушиваясь и испытывая покалывающее, взбудораживающее ощущение во всём своём теле. Но в хате не было тихо, что сразу внушало доверие. Девушка не хотела болтать с мамой, упрашивать бабушку, смотреть на какие-либо сцены, поэтому быстро прошмыгнула в свою комнату, оставив около кровати туфли, стянув и вчетверо сложив платок у изголовья, сняв тёмно-красное с белым горошком платье. На ней осталась лишь одна рубаха, которой она пользовалась как ночною. Ничего не говоря родственницам и не зажигая в комнате свет, она тихонько залезла на кровать. И, уложившись как можно мягче и теплее, под своим тяжёлым пледом, мгновенно уснула, не замечая даже множества чёрных точек на стене: насекомых.
Она не могла сказать, как очутилась там, и был ли это сон, или наяву она бродила в этом месте, или было то очередное воспоминание о сне, которое ей сегодня вышла честь пережить ещё раз. Всё то же дикое поле, а вместе с ним и полюбившийся курган — могила какого-нибудь короля скифов, от которого нынче остались лишь разные кусочки в различных музеях страны, возможно, собравшиеся в одном, если не у исследователей...
— Ну и как? Исчез? — с ухмылкой спросил жрец. Он посмотрел на её ночную рубаху с горьким умыслом, и она смутилась от этого взгляда, прочитав нескромное желание по глазам.
— Не исчез, — с лёгким разочарованием ответила девушка, скрывая в своём голосе надежду.
— Иди за мной, — протянул Санерг руку, и Каллиста ему не противилась.
Отношение к нему как будто бы переменилось, по неизвестной причине она доверилась варвару. Казалось, что дух давно уже прошедшего времени знает ответ на те вещи, которые ей больше не поведает никто другой. Он посадил свою жертву около края кургана, а сам в своём сереньком плаще прошёл дальше к своим людям, разодетым в различную, яркую и странную одёжку. Вместе они, напевая медленную песню хором, пустились в пляс, напоминая смесь русских хороводов и традиционных иранских танцев: народ раскидался кругами вокруг насыпи, приближаясь к нему и вскидывая руки к своему божеству, отбегая после обратно, затем разъединялись крепкие руки и кружили друг с другом женщины и мужчины, меняясь, и снова возвращались к хороводу. Перед Каллистой летали жёлтые, красные и коричневые ткани, вскруживая ей голову. Жрец отбился от этой орды, и люди начали петь песню бога молний, раздаваясь одним большим раскатом грома. Лишь сейчас Малиновка под сопровождение страшно издаваемых звуков вскинула голову, чтоб посмотреть на небо: чернее ночи были тучи, а вдалеке виднелись первые фиолетовые вспышки. Ветер, старый друг, дул в спину, и тёмные кудри закрывали её лицо.
Сокол кинул первые варёные куски конины на землю, и мухи, оставляющие своих личинок во всё ещё лежащем на траве сыром мясе и внутренностях, подлетели к нему, окружив, но не касаясь: горячо. И теперь, медленно подняв и резко опустив руку, словно подавая команду «марш!», варвар объявил начало трапезы. Дикари умолкли. В чаши сливалась странная жижа, именуемая супом, и люди, явно давно не жравши, чавкали, стучали ложками и хрустели костями, кидая их обглоданными в огонь, что поднимался всё выше к небу под симфонию настоящего грома.
Санерг упал на колени, вонзив в отложенное сердце коня свой акинаки, и, взмолившись Арею, из-под шоколадных кос взглянул на Каллисту. Сердце коня, пронзённое и прибитое к земле, забилось, а парень уже держал путь к ней, окружаемый теменью мух, бросивших свою добычу. Он взял казачку за руку, и та последовала за ним. По спине девушки бежали мурашки каждый раз, когда случайно сбившееся насекомое врезалось в её тело, из-за чего она всё ближе становилась к Соколу, схватив его под руку. Парень вёл Малиновку прямо к очагу огня, жёлтые языки которого покрывало тёмное небо.
Они прошли сквозь него, и девушка чуть бы не упала назад, вглядевшись в общую картину. Спасло то, что варвар придержал свою жертву, не дав ей упасть. Перед ними была война и почти чужая для Кубани земля: Дон. Взрывы, ржание лошадей, пыль, стрельба и кличи, крики людей, женский далёкий плач. Кони под седоками необъяснимо чувствовали своих хозяев, казаков — видно было, что в бой тоже шли насмерть. Происходящее слабо, но насторожило.
Среди сотни лиц куда-то спешащих на своих лошадях, Каллиста увидела отца в своей казачьей папахе, представляющейся в виде чёрной шапки из меха овчины, белом бешмете, рубахе, и тёмной черкесске поверх. В руках его блистала окровавленная шашка. Андрей куда-то гнал на своём Тихоне, цвета вороньего крыла, пока немец не подстрелил лошадь, угодив в самое бедро так, что та сбросила батьку. Не останавливаясь во всей суматохе, чтоб, чего доброго, не задавили, он бросился на врага, избегая каждой его пули — не зря заговор да божью веру с собой в кармане носил! Вытирая с шашки кровь побеждённого, Андрюша обернулся на зов чужого голоса, девушки, что казалась неведомой и близкой, будто бы незнакомой, но звавшей именно его:
— Папа! Папа! Папочка! — бежала к нему со всех ног Каллиста, вытирая слёзы и откидывая чёрные запутавшиеся волосы назад, босиком и в одной лишь рубахе. — Папочка!
Мужчина стоял на месте, пока не увидел, что девчушку, чем-то похожую на Настёну, вот-вот подстрелит стоящий за её спиной немец.
— Глупая, падай! Сгруппируйся! Подстрелит же! — бежал к ней отец и, желая лишь прикрыть гражданку за собственной спиной, в своём смертельном рывке и в тридцати метрах от неё, подняв неосторожно ногу, подорвался на мине.
Каллиста в шоке упала на колени, прижав к ним голову и прикрыв её руками: столь близкий взрыв оглушил казачку. Не сумев понять, почему папа не подбежал к ней и не обнял её так же сильно, как она бы того хотела, чтобы сказать пару слов о том, как же сильно его любит, Малиновка приподняла взгляд, страшась невидимой угрозы, однако весь мир опустел. Ёк. Война куда-то исчезла, а выстрелов и взрывов здесь больше не производилось. Лишь кровь и мясо, смешанные с оседающей со скифского кургана, из кисета отца, и донской землями.
— Папа! — на лице постепенно отражалось осознание, к которому прибавлялись бестолковые слёзы. Каллиста колошматила землю от безысходности, боли и невыносимого чувства вины, что кислотой прожигало её внутренности.
Над полем поднялся сильный ветер, солнце закрыла чёрная туча, сверкнула молния раз, пропала пыль и кровь от отца, сверкнула молния два, на плечо девушки положил руку скиф, сверкнула молния три, и они оказались в окружении его народа, ведущего хоровод вокруг них, пока от огня оставались лишь мерцающие в темноте угли.
Каллисте казалось, что ей просто переломали хребет, сделав инвалидом, и выпотрошили после так же, как и коня. Санерг тем временем вытирал с её щёк солёные, горькие слёзы, прикладывая после пальцы к губам и слабо шипя.
— Малиновка, слезами тебе его не вернуть, — шептал он ей на ухо.
— Тогда я иду за тобой, — решительно сказала она, всматриваясь в карие узкие глаза, тёмную бородку. — Следую за тобой.
Сокол хитро улыбнулся. На другой расклад он и не рассчитывал: жертва попала в капкан, и теперь её душу легко можно было разодрать.
Ночью Каллиста исчезла из своей постели, бабушка и мать не помнили, вернулась ли она вообще в хату. Малиновка с того дня считалась без вести пропавшей. И только ветер знал, что на месте того самого кургана, на самом дне ямы, темнее и ниже любого колодца, лежала в белой рубахе и с тёмными кудрями девушка, что стеклянными белыми глазами смотрела на серое небо, с которого срывался дождь, пока кочевой народ засыпал её землёй. Правда оказалась смиряющей.